Кустова, Дина Васильевна. Выжить: воспоминания о моей непростой жизни
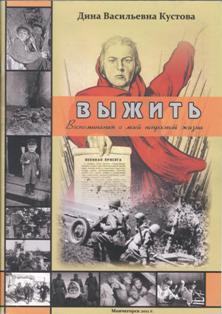
Кустова, Дина Васильевна. Выжить: воспоминания о моей непростой жизни/ Д.В. Кустова.- Мончегорск,2011.-79с.
Дина Васильевна родилась в 1930 году. Детство и юность её прошли в вологодской деревне. В 50-м году приехала в Мончегорск. Работала на руднике, в шахте №4, потом в энергоцехе комбината «Североникель». Активно участвовала в художественной самодеятельности. О том, что пришлось ей пережить, рассказала в своих воспоминаниях.
Откуда пошел наш род.
Откуда пошел наш род? По материнской линии наш прадед — Иван Маркович, его жена -Опросинья. Семья у них была зажиточная. Четверо детей: сын — Асаф Иванович и три дочери -Анна, Александра, Милодора. Земли у них было пять десятин. Скот держали: восемь-десять коров, три лошади, овцы, свиньи, куры, гуси. Много лесных угодий и сенокосов по реке Юза. Нанимали батраков, так как одни с хозяйством не справлялись. Дети росли, дочери вышли замуж (всех выдали в богатые семьи). Конечно, три свадьбы справили(!), да каждой дочери дали большое приданое. Это для Ивана Марковича было шоком. Ругал жену: «Нарожала девок! Одно разоренье!». Иван Маркович с горя запил, стал продавать всё, что можно из хозяйства, всё — на пропой.
Наш дед (по матери) Асаф Иванович.
Сын его, Асаф, задумал взять всё хозяйство на себя, но отец долго упирался:
— Ты что, сын, меня живьем хоронишь? Я вижу, тебя надо женить, выбрать девку из хорошей семьи, здоровую, красивую, работящую. А девок много, надо посвататься. Из своей деревни взять — меньше расхода. А с ней дадут приданое. Пусть дают земли — десятин 5, и не меньше. Придет не к голому жениху: наше хозяйство — лучшее в деревне, завидуют люди нам.
Асаф ответил:
— Ну что, тятя, я согласен с тобой полностью. Можешь засылать сватов. Но только смотри, может, она и из богатой семьи, но корявая, косоглазая, толстая, то такую жену мне не надо. Не женюсь на такой! Тятя, ты меня понял?
Отец:
— Да ладно тебе, Асафко. Есть у меня одна на примете. Бабка, слышь-ко?! Мы сегодня с соседом Семеном идем сватать для Асафка, а то давно пора бы ему жениться.
— Ой, дедко! Как бы не оплошать. Смотри, только бы работящая была, не лентяйка и не скандальная.
— Мы пойдем к Василию Литомину. У них одна дочь. Приданого дадут, сколь запросим.
— Ты с ума спятил! Алена ведь такая красавица, а наш сын — не красавец, весь в тебя!
— Ну, бабка, хватит каркать! Я сказал — пойдем к Литомину, и точка! И посмотришь, как они клюнут на наше богатство.
— Ты поубавил богатства-то! Сколько пропил — и не сосчитать!
Так Асаф Иванович выгодно женился на Елене Васильевне, красавице, взял хозяйство в свои руки. У них родились дети: Михаил, Афанасья, Александра и Василий. Асаф каждый год, зимой, увозил свою продукцию в Тотьму. Редко в Вологду. Впрягал своих четырех коней и нанимал четырех. Вёз всё, что выросло на полях: пшеницу, рожь, ячмень, овес. Продавал мясо: свинину, говядину, баранину, кур, свиное сало. Масло возил целыми бочками. Лен, тресту неочищенную, кору ивы и дрова. Продает и там же закупает продукты: соль, сахар, рыбу разных сортов, а также промтовары — обувь и всё прочее, что нужно для крестьянской жизни.
У Асафа был отдельный дом-магазин, где он продавал всё, что привозил, очень дорого. Конечно, его ругали, стыдили, говорили: «На Асафе нет креста Божьева. Взять вот хоть рыбу, треску-вонюху, разве она стоит два гривна?! Совести нет у него!»
У Асафа все работали от зари до зари. Не давал отдыха и детям. Мясо свежее увозил на продажу, а сами ели, что протухло, холодильников-то не было. Был большой погреб. Каждую весну, в марте, набивали в него снег, утрамбовывали и ставили мясо, масло, пока снег не растает. Тогда эта вода пригождалась, когда шли на сенокос, на жниву. Иногда соседи просили прохладной воды. В деревне над ними посмеивались: «Не берет ли Асаф денег за воду?» Да, денег за воду не брал. Но скажет: «За воду ты мне должен отработать один день: выгребать навоз со двора, тогда и накормим досыта, соглашайся!» А что ж, куда деться бедному крестьянину? Асафа много лет называли Петров Афас-кузнец.
Время шло… Сына, Михаила, взяли на войну с Германией. Это был 1914 год. Семь лет он был в плену у немцев. Девки — невесты на выданье. Афанасью выдали замуж тоже за богатого -Гнусова Павла Арсеньевича из деревни Семеновская. Он был пьяница, злой — сильно бил жену. Афанасья убегала к отцу, но и отец его боялся, поэтому отправлял дочь обратно. У них было двое детей: Коля и Катя. Свекровь Афаласыо защищала. Впоследствии Павел уехал в Архангельск и там сгинул.
Наш дед по отцовской линии
Баженов Никифор Яковлевич.
Жил не богато и не бедно. Середняком назывался. Жили за счет своего труда. Земли много обрабатывали, скота много держали. У Никифора было четыре дочери: Дуня, Наталья, Катя, Величада и два сына: Пармен и Василий. Когда младшему исполнилось три года, мать умерла. Никифор остался один. Вся семья очень переживала. Дети, мал мала меньше, остались без матери. Время шло… Дети подрастали. Старший сын, Пармен, женился. Дуню замуж выдали в богатую семью, в Рослятино. Вскоре и Наталью выдали, в деревню Семеновская. Потом Катерину отдали, в дальнюю деревню Титово, а Величаду — в свою деревню — Лукерино.
У Пармена было пятеро: Иван, Алексей, Анна, Надя и Александра. Брат Пармена -Василий рос вместе его с детьми. Его все жалели, опекали — рос без матер.’. Всё шло своим чередом. Дед Никифор — хозяин — все слушались. Никифор был очень умный, набожный. Вся деревня старика уважала. Но опять пришло несчастье в их семью: умерла у Пармена легка -Поля. Остались дети малые. Самому старшему, Ивану, — 13 лет, а младшей, Александре • два годика. Вот такая судьба выпала. Такая же, как и отцу, Никифору. Но что поделаешь? Надо жить дальше. Сестра Катя нашла Пармену невесту — девушку из дальней деревни. Говорят: «Умная, работящая. Вот тачая и нужна». Поехали свататься. Но сватов удивило, что в таком убогом домишке жили люди. А невеста понравилась — высокая, сероглазая, но ни обуть ее, ни одеть… ничего нет у них. Отец умер, а ребятишек полна халупа. Невеста сразу же согласилась, поехала. Ей сказали, что Пармену нужна хозяйка и мать пятерых детей, это её не испугало. И так Евдокия Осиповна стала женой Пармена. Пармен сказал детям: «Вот она вашей ламой будет, все называйте её мамой, слушайтесь и никаких капризов». Евдокия Осиповна родила Пармену восьмерых детей, вот ведь какая плодовитость! Толя, Нина, Саша, Гена, Вася, Фима, Галя, Лида. Старшие дети: Надя вышла замуж в Офонково, Анна в Межу, Александра в Рослятино, Алексей ушел в дом i: весты. Брата Пармена, Василия, взяли в армию, служил в Польше, а в отпуск приехал в 1921 году. Пармену было жалко его отпускать:
— Васька, женись! Сам себе невесту подыщи. Походи на вечерину и сходи-ка в Дресвяново. Говорят, там много девок богатых.
Василий:
— Я женюсь на Верке.
— Что ты, Васька! Да разве она для тебя?
Парменовская порода очень славилась по всей округе. Каждый рад был с ним породнится. У Пармена семья 16 человек. Жили очень дружно. Никто не слыхал, чтобы кто-то с кем-нибудь поссорился. Только вот дед Никифор недоволен был невесткой, но и он вслух ничего не говорил. У Василия кончается отпуск — надо жениться. Пармен и его зять, сестры муж, Павел Андреевич, поехали по деревням, искали невесту. Остановились в Дресвмнове. Посватались у купца Асафа Ивановича. Конечно, он еще покуражился, мол, у вас семья большая, а девка у нас скромная, стеснительная, работящая: ткет любой холст, соткет и полотенце, и пояса цветные шерстяные, вышивает хорошо любой рисунок и вязать может, и в поле может пахать, сеять.
— Ну, мы поняли вас. Теперь наша очередь — хвалить жениха. Парень скромный, выученный, закончил ветеринарное училище. Вина не пьет. Только вот у нас проблема: парню надо в армии дослужить. Но можно договориться со становым приставом. Он за мзду сможет оставить нашего солдатика дома. Если вы согласны выдать свою дочь за моего сына, то прошу вашей милости помочь откупиться от армии. Становой пристав затребовал мешок муки и пять килограммов масла сливочного.
— Пармен Никифорович! Я согласен. По рукам!
— А теперь покажите невесту. Как её звать-величать?
Вывели невесту-красавицу: разодетую в шелках, среднего роста, улыбается. То, что надо! Ваське понравится! Решили свадьбу сыграть через три месяца.
— Дети наши пусть встретятся, посмотрят друг на друга, ну, а мы будем к свадьбе готовиться. Да вот ещё в чем дело: велико ли приданое с невестой?
— Пармен Никифорович! Дам вам пять рублей золотом, большой сундук подарков, на всю вашу семью. Хватит? Ну, и телку годовалую, или мало?
— Я-то согласен! Но прибавьте-ка ещё два рубля золотом. Ведь одна свадьба нам сколько встанет.
— Ладно! Даю семь рублей золотом. Ведь наша невеста не по горам ходила, не шишки собирала, а пряла, да ткала, да сдарье припасала. Какие сами, такие подъезжают и сани. Да будет так!
Свадьбу сыграли. Молодых возили на венчание. Невеста была в самых дорогих одеждах. Люди говорили: «У Пармена все высокие, а невеста — невеличка». «Ну, что вы говорите, ей поставят под ноги муки мешок, а на голову — золота горшок, вот и сравняется с Парменом». Привели в дом жениха Александру Асафьевну. Познакомили с семьей. Она увидела, сколько высыпало всего семейства — 16 человек, она теперь 17-я! Привезли сундук с дарами. Первому надо подарить свекру, Никифору Яковлевичу, — дала брюки матерчатые, а не из холста. Затем Пармену и Евдокии — брюки, сарафаны и постельное белье. И детям: платья, юбки, штанишки, утиральники. Все очень были довольны. Подарки все с магазина, а не домотканые.
1922-й год.
По России пошла смута и до нас дошла. Стали раскулачивать тех, кто богатый. Люди все в страхе, а Асаф стал прятать свое имущество. Продукты ночами увозили в лес в свой надел: рыли ямы, устилали берестой и ставили мешки с зерном, мясо в ящиках, масло. Коров запретили резать. Что же делать? У Асафа корова сломала ногу, пришла милиция, сказала, что это вы сломали ей ногу. Асаф объясняет, что это корова сама залезла куда-то, и корову оставили.
В деревнях мужики-бедняки, лентяи, все записались в большевики. Власть в корне изменилась. Большевики стали хозяйничать: у людей все отобрали — до последней нитки сдирали, все для восстановления новой России. Брали вещи, скот: лошадей, овец… Если ты очень богатый и имеешь два дома, то их тоже забирали. Вселялась туда управа, а людей из деревень ссылали. Езжай куда хочешь. И 20 лет их никто чтобы не видел и не слышал. Люди бежали, куда глаза глядят. Боялись, что пристрелят. Кто был с деньгами — уезжали в Мурманск или Архангельск. А кто ехал в Москву — правды искать. И там пристраивались к новой жизни.
Ну, а как наши молодые? Да всё у них вроде тихо. Но один поворот. Василий Никифорович стал большевиком. Вот это и спасло от разоренья. Забрали у них десять коров, три лошади (одну оставили), забрали плуги, телеги, сани и всю сбрую для коней.
Пока что жили единолично, но поговаривали, что скоро будет коллективизация. А что это такое, никто толком не знал. Пока что на своих десятинах пахали, сеяли, убирали. Василий и Александра уже три года вместе. За это время родилась дочка, но — слабенькая, Катей назвали. Прожила полгода и умерла.
Начался 1925-й год. Апрель месяц. В это время все свозили сено с пожни. И братья, Пармен и Василий, тоже привезли три воза сена и поехали ещё. Надо было, пока есть снег, всё вывезти, чтобы прокормить коней и коров (до зелёной травы). Дед Никифор сено в сарае уложил, утрамбовал, покурил, бросил окурок и пошел в дом. А сено-то от окурка вспыхнуло мигом. Всей деревней сбежались, думали потушить. Где тут «затушить» — воды нет, колодцы далеко, всё вручную — снегом кидали. Всё сгорело. Успели только сами выскочить. Братьи приехали — уже один пепел от дома остался. Куда деться? — ничего не осталось. Василия и Александру одни люди пустили на зимовку. Иван и Ульяна ушли к тёще, а Пармен всей большой семье нашел дом в другой деревне.
Всё надо было начинать с нуля. Пошли по деревням просить милостыню на погорелое место. Просили хлеба, одежду, обувь. Кто сжалится, а кто и скажет: «Ну, вы погорели от своих рук». Но все же привозили целый воз. А родственники давали много: кто деньгами, кто одеждой и хлебом. Теперь надо было подумать: что делать? с чего начинать? Решили срубить Ивану Парменовичу лес на дом. Договорились с деревенским мужиком, и дело пошло. Ставить дом помогала вся деревня. Вскоре стоял новенький дом — большой пятистенок. К зиме уже перешли. Теперь очередь дошла и до Василия. У них уже пополнение в семье: родилась девочка, нарекли Лидой. Но тут пришлось раскошелиться Асафу Ивановичу. Купили дом в дальней деревне. Вот только куда ставить? Все земли в Лукерине заняты. Долго хлопотали: писали в волостное управление. Пришло разрешение — выделить участок леса (два гектара кустарника). От Лукерина — семь верст, между деревнями Лукиной и Ильинкой, на горе. Опять мужикам поклонились. Те помогли раскорчевать землю. Тогда уже и дом перевезли, поставили в лесу. И вот стали жить: пахали, сеяли, урожай убирали. Срубили баню. Хорошо, что много леса от корчевки земли осталось. Асаф Иванович дал корову. Но недолго пожили тихо и спокойно.
Образовались колхозы, и теперь у бедняков забирали всё. На семью оставляли одну корову, а остальное — в колхоз, и люди все должны были работать в колхозе. А кто не шёл, на него накладывался такой налог, что и за два года не осилить. Так со злобой и шли в колхоз. В колхозе были хорошие урожаи, пока были ухоженные земли, отобранные у людей. Когда год кончался, давали по выработанным трудодням зерно: рожь, пшеницу, ячмень, овес — и масло сливочное, даже картошку. Всё это выращивали в колхозе. Управленцы не знали, какие нормы должны быть на каждую работу. Сначала всё завышали, думали, что люди так же работать будут, как на своем поле — и днём, и ночью. А некоторые, лентяи-голодранцы, пробились в начальство и пьянствовали. Кто был никем, тот стал всем.
Василий Никифорович теперь редко бывал дома: приедет на лошади, ночует ночь и опять уедет на неделю или больше. Он стал начальником всего сельсовета: ветеринар, врач и животновод. Люди все озлобленные — были против порядка большевиков. В одной из деревень погибло около сотни крупного рогатого скота. Отравили. Всё колхозное управление вызвали в волость. Нашли козла отпущения — судили Василия Никифоровича. Дали шесть месяцев принудиловки за халатное отношение к работе, сняли с должности и направили работать в пекарню. Но председатель колхоза, да и сами колхозники написали просьбу о помиловании Баженова: «Он тут ни при чем — врагов полно, не уследишь. Нам срочно нужен ветеринар. Сколько скота по колхозам осталось без ветеринара».
Александра Асафьевна стала ходить на работу в Ильинское, а это за полкилометра от дома. Дочь свою, Лиду, оставляла одну. Приходила на обед, покормит и опять уходит. Был у них свой скот: корова, овцы, поросенок и куры. Все паслись возле дома на огороженной большой площади. Трудное было время. Арестовывали невинных людей: например, кто-то был зол на соседа и писал заявление в милицию, что, мол, вот такой-то ругал власть и управленье нецензурной бранью, недоволен Советской властью. И их сразу забирали, ссылали в Сибирь. Или если кто-то совершил небольшое преступление, то сразу отправляли под конвоем в Мурманск. Шли пешком, и многие убегали, пока конвой почивал. Разбегались подальше от волости, искали работу в колхозах. Не хватало специалистов: кузнецов, плотников, да и грамотных совсем не было. В колхозах подбирали ссыльных и не спрашивали, откуда люд явился. Да и зачем знать? — колхозу-то большая польза: люди умные, работящие, скромные, не пьянь.
К Василию Никифоровичу тоже забрел ссыльный. Назвался Алексеем. Почему не принять работника по дому? Здесь никто не узнает — дом в лесу. Василий поговорил с женой: «Как Саня, возьмем? Пусть остается. Работы невпроворот. Надо сделать хлев для овец, навес для сена, для дров, да и Лида будет под присмотром, когда ты будешь на работе». Саня согласилась. Конечно, теперь Василию некогда заниматься домом.
— Саня! Ты только не говори, что у нас живет человек. Если его кто увидит, скажи, что с Ляминги — брат Евдоюш Осиповны. Поняла? Его можно в бане поселить.
Алексей прожил больше года. Не сидел — сделал много: корзины из бересты, туески большие и малые, разделочные доски для кухни, хлебницы; навырезал из березы ложки, чашки, игрушки для детей — все умел делать. Золотые руки — лаптей наплел, Александре хватит на пять лет. Алексей как-то загрустил. Рассказал Василию, что его семью раскулачили, всё забрали: два новых дома, одежду, весь скот. Оставили только старенький дом.
— У меня четверо детей, жена и мои родители. А меня сослали. Я родом из Смоленской губернии. Не знаю, жива ли моя семья. Так хочется увидеть, и боюсь, а вдруг опять схватят. Василий подумал и говорит:
— Я тебе помогу: добуду документы.
— Если так, то буду очень вам благодарен. Не забуду никогда вашей доброты.
Лида опять осталось одна и плачет:
— Почему от меня дедушка ушел?
Александре Асафовне подолгу приходилось жить одной. В лесу ночью зимой приходят волки — воют около двора, где скотина. Иногда зайцы ночуют под лестницей. Летом в доме не скучно: люди с деревень идут косить на Пеженгу и ночуют по 10-15 человек. До дома идти далеко, и время проманишь. А осенью мужики идут бересту драть — для лаптей заготавливают. А теперь и зимой стали жить лесорубы — рядом рубили лес. Асафьевна варила для них обеды, за это леспромхоз ей платил.
1930-й год.
В этом году Асафьевна родила дочь. Василию сообщили.
— Опять дочь?
Сразу же приехал.
— Ты что, Саня, всё девок рожаешь? Зачем они нам? Хватило бы и одной Лиды!
— Василий! Что же я могу сделать? Кого Бог даёт!
— Саня! Давай мы эту девочку похороним?
— Да ты что, Василий, нас судить будут! Живого ребенка похоронить!
— Ну, мы её дымом удушим.
— Да как это?
— Да очень просто! Печь протопим, закроем трубу пораньше, чтобы был небольшой огонёк. Будет сильный угар. К тому же я ещё такое зелье сожгу, от которого очень ядовитый дым. Она захлебнется и уснет. Вот и всё… Боли не почувствует.
— Ой, Василий, грех-то какой!
— Ну, какой тут грех? Умирают же дети. Кто узнает, почему только что родился ребенок и умер? Ну, хватит стонать! Ты иди в баню обряжай, а пока мы паримся в бане, она умрет.
Дело сделано, ребенок один задыхается, а родители в баньке наслаждаются. Через три часа явились. И, о ужас! Ребенок шевелится, кашляет, глазки не смотрят, но слезки текут. Всё личико и ручки в красно-багровой сыпи. Родители растерялись: что делать? Мать как проснулась: схватила из качки ребенка, понесла в баню, промыла глазки, дала грудь — и девочка начала чмокать. После этого она плакала день и ночь. Видимо, болели все внутренности.
— Василий, не дам я больше ребенка на усыпление! Пусть живет. Дай ей Бог здоровья!
Тут и отец сжалился. Удивлялся, что ничего не взяло девку.
— Василий! Это её ангелы-хранители уберегли!
— Да я и сам испугался — чего удумал?! Вот отец — подлец! Но и ты хороша, не смогла остановить меня! Ну ладно, слава Богу, всё обошлось. Давай теперь её регистрировать. Какое дать имя? Надо подумать… Вот как-то я читал книжку «Кавказская пленница». Так вот, там одну девушку звали Диной. Давай и мы так назовем. Дина — редкое имя.
1931-й год.
21 января Лиде исполнилось четыре года. Динке — полтора месяца.
— Василий! Как мне управиться со всеми? Дети, скота столько, за ним же тоже уход нужен! Корова отелилась, телёнок еще маленький, да и дров сколько наносить нужно. В избе утром топлю печь, вечером — маленькую печку — иначе нельзя, деется холодно.
— Хорошо, я понял. Сейчас же схожу в Лукино, найду Матрёну, старушку, помощницу тебе, зыбку качать сможет. Она будет рада. У них большая семья, не очень сладко живется.
Матрена согласилась. Помощница и зыбку качает, и носки вяжет, и за Лидой смотрит. Василий привез зерна, получил за трудодни. Но надо ещё смолоть, а мельница далеко, на реке Юзе — это в деревне Кожухово, 15 км от нас. Приедешь, надо очередь отстоять. У самой Юзы домик стоял, там и ночевали, ждали своей очереди. Конечно, не было нужды с хлебом, мясом, овощами, а одеться, обуться не во что, выручали только лапти. От мала до велика — все в лаптях ходили. В каждой избе был лапотник. Сплести лапоть не хитро, а вот заплетать мог не каждый. Василий не умел заплетать, ему помогал брат Пармен. Но к лаптям нужны были веревки, портянки, на которые тоже нужно напрясть льну и соткать. Лен запретили сеять на своих участках. Если кто посеет, тут же — выговор и заставят скосить. У людей денег нет и взять неоткуда. Бывали в хозяйстве излишки скота или хлеба, но некому их продать. Так и жили, ждали лучшего. В магазинах кое-что появилось. Промтовары: обувь, сапоги — резиновые и кирзовые. Ну, и лаптей целый угол до потолка. Старики плетут и сдают в магазин. Им деньги дают, копейки. Но и тому рады. Продавалась кухонная посуда: чугуны, глиняные горшки, крынки, ухваты, а также лопаты, вилы, грабли, керосин, спички и соль. Это самое необходимое для деревни.
Василий приехал из района с вестями:
— Было собрание большевистское. Нам приказали разрушить до основания церковь в селе Андреевском.
— Что ты, Василий? В своём уме? Тебя за это убьют!
— Ох, Саня! Если не выполню приказ, то убьют точно.
— Как ты её будешь ломать?
— Там уже стоят машины. Завтра будем сбрасывать купола, а потом можно и руками разбирать.
— О, Господи! Василий, не подходи к церкви, это грех великий. А где же священник?
— А его уже увезли в тюрьму, вместе с попадьей и четырьмя детьми. Саня, ты не бойся! Я сам не буду участвовать.
1933-й год.
16 февраля родился Веня. Теперь церкви нет. Дети рождаются, но крестить их негде. Динка и Веня некрещеные. Лиду еще успели окрестить. Люди все в страхе: «Как же так?! Дети наши нехристями будут жить?». В народе шептались: «До чего дожили! Это всё Вася Мекехин. Его повесить мало. Нехристем он и сам стал». Люди боялись выказать недовольство — иначе сразу увезут. «Как же жить без Бога?» Говорят, когда жгли иконы, над костром появилась Матерь Божья. Один мужик упал без сознанья и через три дня умер. «Господи, какие страсти!» Со всех деревень ходили смотреть на разваленную церковь. Вставали на колени, молились, просили прощения за нехристей. «Они не ведают, что творят». С церкви сброшены купола, разрушены все пристройки. Стены с фресками святыми выстояли. Церковь была поставлена в 1603 году, архитектор неизвестен. Стены оказались настолько крепкие, что их не смогли сломать ни тракторами, ни даже подорвать взрывчаткой. Они не дрогнули. А кирпич, ох, как всем нужен — в районе строили жилье для управленцев с печным отоплением. Люди собирали осколки кирпича и несли в дом, как святыню, клали в мешочек и прятали за иконы.
Но жизнь вроде становилась спокойней. Люди потихоньку привыкали к Советской власти и порядку. Но опять сверху приказ: «Всем хуторянам, где один дом и где до пяти домов, переехать в одну деревню, в один колхоз». Вот это ужас! Как уехать с веками насиженных мест! Но приказ есть приказ! И точка! Василий Никифорович перевез свой дом в Ильинское. Жене его не понравилось. Она хотела, как и другие хуторяне, переехать туда, где контора колхоза, в деревню Лукерино. У Василия все родственники живут в Лукерино. Он живет там на квартире, но перевозить туда свою семью не хотел. Ему нужна была свобода. Он стал секретарем партийной ячейки колхоза, и ему казалось, что он теперь — царь и Бог.
1935-й год.
16 июня у Василия родился ещё мальчик — Василий Васильевич — вот уж некстати. Хоть и сын, но уже четверо детей. Это уже слишком. Василий прожил дома две недели: помогал жене-роженице, носил дрова, воду. Вода в этой Ильинской за полкилометра. Васютке уже полмесяца исполнилось. Вдруг он заболел и сразу умер. Отчего умер ребенок, никто не знает. Врач на дому. На второй день похоронили. Кладбище находилось далеко от Ильинского, в восьми километрах. Василий с кладбища и домой не заехал, — прямо в Лукерино отправился довольный собой. Александра Асафьевна пришла домой одна, заплаканная, то ли из-за ребенка, то ли из-за обиды на мужа.
1936 год выдался самый неурожайный, самый трагический, можно сказать так. Лето было дождливое, холодное. Сено косили, но вода всё сносила. Скота колхозного, а также и своего кормить нечем. Рубили ржаную солому, еловые сучья, это и давали. Какой-то скот выживал, а больше — погибал от голода. Мне, Динке, было 6 лет, и этот год запомнился на всю оставшуюся жизнь. Кушать вообще нечего, — от голода сдохла лошадь. Наш отец облил ей карболкой. Люди просили:
— Отдай нам эту тушу, на всю деревню хватит. Ребятишки голодают, да и сами…
Василий говорит:
— Не имею права. Кобыла сдохла. Возможно, в ней болезнь какая. Приказываю увезти тушу подальше от деревни и закопать. Я проверю.
И уехал. Мужики собрались всей деревней и привезли тушу обратно. Шкуру сняли. Принесли большой котёл, разожгли костер, изрубили тушу и варили целый день. А какой вонизм был в деревне! В избах даже пахло. А мы, детвора, ждем, когда же мясо сварится.
Наконец дождались. Стали мясо делить. Собралась вся деревенька: восемь домов, одних детей -26. Раздали… У кого большая семья — тому побольше дали. Все — рады. Но запах карболки не улетучился. Мы с мамкой ели, а Лида не стала есть, говорит: «Я лучше умру с голода». А Веньке не дали, потому что ещё маленький. Ему отец привез хлеба из пекарни. Мамка давала Веньке по кусочку, а я всё ныла: «Венька! Дай мне лизнуть хлебушка». Но мамка строго следила, чтобы я не отнимала у него хлеб. А у меня от мяса кобылы началась сильная рвота и голова кружилась так, что встать не могла. Откуда-то тятька принес картошки, да много. Мы были очень рады. Ели вареную, печеную… Но когда узнал отец, что кобылу дохлую съели, не на шутку испу1^ался. Спрашивал, кто это сделал? Как кто? Вся деревня голодует! Все ели, и, славу Богу, пока все живы, не отравились.
Стали печь колхозный хлеб. Привозили каравай и взвешивали по 300 грамм на человека на неделю. Но нам ещё перепадало, — отец привозил топленое масло. Он же был у дел и украл. Это когда у тятьки просыпалась отцовская совесть, и он вспоминал о детях. Слух дошёл до нашей деревни: Вася спутался с Анюхой Митишной. Она родила от него сына и назвала Василием, Василий Васильевич. Мамка наша в истерике! Побежала в Лукерино, в контору, ругать Василия при всём народе. Он ей ответил:
— Ты меня позоришь! Я авторитет теряю. Ухожу от тебя совсем. Можешь подавать на меня на алименты. Поняла?
Она:
— Неужели ты пойдёшь к Митишне?
— Я найду куда уйти! — и ушёл навсегда.
Лида закончила два класса. В школу ходила в село. Все наши деревенские дети ходили в Павлово — это пять километров от нас. На пути в школу есть деревня Семеновское. Там жили наши тетушки: сестра отца и Афанасья, сестра матери. Так что с жильем проблем не было. Мамка наша ждала, что её Василий вернется домой. Но опять пошли слухи, что Василий Никифорович женился на Дуне Немкиной. У неё двое детей: Лида и Лёня. Лида — мне ровесница, а Лёня — ровесник Вене. Мужа ее сослали — сын кулака. К этому и наш отец приложил руку. Он с Дуней встречался то в гумне, то в бане. Люди всё видели. Николай Немкин за свою жену избил нашего отца. Мамка подала на алименты. Тятька, в свою очередь, предъявил мамке:
— Ты, Асафьевна, отдашь мне сына и корову в придачу.
— О-о! Вот чего захотел?! Корову?! А ты забыл, чья корова?! Это же мне отец подарил! Веньку отдам только с Динкой.
Тятька приехал за нами. Мне было очень страшно ехать, а Веньке — нет, он очень любил отца. Сразу в телегу залез. Мы не понимали, что с нами делают родители. Мамка меня настращивала:
— Вот будешь у мачехи жить, так она тебя будет каждый день лупить вицей и закроет в подвал. Там тебя крысы будут грызть!
— Я не поеду! Пусть Лида едет к тятьке!
— Лида уже большая, поэтому её не берут.
Мы приехали на новое место, в Лукерино. Мачеха встретила, но, конечно, не обрадовалась, хотя за стол сразу посадила. Нарезала хлеба, дала суп с мясом. Как мы были рады такой еде! Если каждый день нас так кормить будут, то домой я не поеду. Мы с Венькой уплетали за обе щёки. Улыбаемся — так нам хорошо! Но Дунины дети не очень-то были от нас в восторге -нашему вторжению в их жизнь — косо смотрели. Спать нас отвели в другую половину дома. Там уже были постелены два матрасика с подушкой и одеялом.
— Венька! Как нам здесь хорошо!
— А мне плохо, — к мамке хочу.
— Но ты хотел же к тятьке!
— А теперь не хочу!
— Венька! Не плачь. Завтра утром — убежим! Только вот дороги домой я не знаю.
Утром нас разбудил тятька:
— Вставайте, дети. Будем завтракать. Но сначала выслушайте меня. Ветошка, сынок! Я тебя очень люблю. Останешься жить со мной. Я тебе куплю ботинки, брючки, рубашку, — в лаптях больше ходить не будешь. Скоро к нам в колхоз придет трактор. Это — большая машина. Я тебя на нём прокачу, договорились? Динка! Ты — уже большая. Иди домой. Неужели не понимаешь, что я не могу взять к себе вас двоих?! Ты должна жить с мамкой и Лидой. А Веня — со мной.
Тут Венька взвыл до истерики:
— Тятька, пойдем домой! Я хочу с тобой к мамке. Не надо мне ботинок! Мне дедушка обещал лапти новые сплести.
— Венька, я тебя не отпущу.
— А я убегу от тебя.
Нас еще раз накормили, и тятька повел к дедушке Пармену. Мы звали Пармена «дедушкой», а Евдокию Осиповну — «бабушкой», потому что не было у нас других деда и бабушки. Пришли домой, но мамка не очень нам обрадовалась. Только Лида рада была. Мать все выспрашивала:
— Чем вас кормила эта шалава?
— Мамка, она не шалава! Нас хорошо накормила!
— Ах, вот как?! Чего же ты сбежала от такой хорошей еды и хорошей матери?
— Так ведь тятька меня не взял! Хотел оставить только Веньку.
— Конечно, ты ведь — дура! Кому ты нужна?! И Бог-то тебя не возьмет. Вот бы с хлеба долой!
Лида пошла в 3-й класс. Многие ребятишки в школу не пошли, и поэтому, в октябре, к нам из Павловской школы пришли две учительницы. Меня спросили:
— Как тебя зовут?
Я ответила:
— Динка Баженова.
— А почему ты в школу не ходишь?
— Так потому что у меня лаптей нет.
Учителя засмеялись.
— Необязательно в лаптях — можно и в сапогах ходить.
А я говорю:
— У нас только тятька сапоги носит — высокие, до колен.
Лидка спрашивала у мамки:
— Почему Динка не ходит в школу?
— А зачем ей в школу? Она — дура. В школе она ничего не поймет. Пусть сидит и прядет, -надо вас во что-то одевать. Да сколько нужно на вас онуч! Пусть дедушка её научит лапти плести. Это, я думаю, она сможет. А лучше всего её отправить к отцу.
Как-то пришла к лам родственница, Надежда Парменовна, попросила мамку:
— Тетушка, пусти Динку на три дня, с ребенком понянчиться. Нам на свадьбу нужно сходить. У мужа сестра Манюшка замуж выходит.
И пошла я далеко от дома, пятнадцать километров. Подходим к дому, и Надежда говорит:
— Посмотри, это — машина. Видишь, как она на тебя выпучила глаза?
Я очень испугалась, стала поправлять платок на голове, чтоб машине понравится. А как у них в доме красиво! На окнах висят самодельные марлевые занавески, стоят кровати, на полу
половики, а сами все в ботинках ходят. Во как! Я босиком: лето. Надя с мужем оделись и пошли на свадьбу. Платье на ней невиданной красоты, голубое. А у Гриши — костюм серый, ботинки блестят. Надя мне наказала:
— Динка! Если будет гроза, выключи радио.
Но как выключать, не показала.
Теперь я знаю, где деревня Рослятино. Мамка говорит:
— Ты, Динка, сегодня пойдешь в волость. Там спросишь, где живет бабушка Уляшка, тебе скажут. Унесешь ей крынку масла. Она сделает так, чтобы отец к нам вернулся.
— Мамка, я одна боюсь. Пусть со мной Венька идет.
Дошли до Лукерина, к дедушке Пармену. Он нас спросил:
— Вы к отцу идете?
— Нет, мы идем в Рослятино. Нам надо найти бабушку, Уляшку. Несем ей масла за то, чтобы тятька домой пришел. За масло она вернет нам тятьку.
— О, Господи! Что же это такое! Сама почему не пошла?! Детей к знахарке отправила. У вашей мамки с головой не в порядке. Лучше бы вы сами это масло съели. Ну, ладно, это не моё дело. Идите с Богом. На обратном пути зайдете к нам.
Пока мы проходили Лукерино, нам встречались женщины, и все знали, чьи мы дети. Спрашивали:
— Куда идете? Зачем?
Ну, как не похвастать, зачем идем?! Наконец нашли знахарку. Она нас учила, как отца вернуть. «Натопить баню — когда мать вспотеет, вы должны тряпкой обтирать с неё пот и отжимать в посуду, и этот пот чтобы отец выпил». Отец приезжал, но с ним всё время был ещё мужчина. Мать наша кормила колхозных телят, а отец приезжал их смотреть. Зашли к нам в дом. Мамка поставила на стол бутылку водки, а свой пот вылила в простоквашу. Но мужики не притронулись к простокваше. Водку выпили, закусили пирогом с луком. Отцу донесли, что мы к знахарке ходили. Он очень ругал мамку:
— Зачем людей смешишь? Ты думаешь — наколдовали тебе, и я вернусь? Лучше бы ты это масло детям скормила, чем их к колдуньям посылать.
Конечно, мне тогда попало.
— Это ты, Динуха, всем рассказала!
— Мамка, ты же мне не сказала никому не говорить!
Лида тоже мне наподдавала. Меня когда бьют, мать бьет, — я терплю боль и не плачу. За это мне еще больше попадало: била, пока не зареву, или пока она не устанет. Я убегала в лес и уж там давала волю слезам. В лесу у меня было укромное место — ёлка и береза росли рядом. Я из бересты навес сделала, чтобы, когда дождь льет, прятаться. Это место только Венька знал. Иногда я там до темноты сидела. Тогда Веньку посылали меня привести.
— Иди, пусть дура идет домой, не буду бить.
Но еды не давали. Часто мамка меня отправляла:
— Иди-ка куда-нибудь побегай, чем под ногами путаться.
Когда с улицы прихожу, Венька говорит мне:
— А мы без тебя ели пирог и мясо.
И тогда мамка Веньке наказывает:
— Ты не сказывай дуре, чё мы без неё ели.
И Венька тогда так говорил:
— Мы без тебя ели, но что, я тебе не скажу.
У мамки телята все были зараженные лишаем. Она со двора приходила и фуфайку свою на печь кидала. А мы ею укрывались. Вот все и заболели лишаем. У мамки на руках и ногах, у Лиды на руках и груди, у Веньки на шее, щеках, на лбу, а у меня — на голове. Вся голова была покрыта лишаем, и инфекция забралась под кожу. Кожа стала отваливаться вместе с волосами. Это была невыносимая боль. А если дождь бьет по голове, то вовсе — мучение, хуже некуда. Соседи говорили:
— Асафьевна, ты ребенка сгноишь! Своди её к доктору.
— Вот ещё! Это надо целый день из-за неё проманить. Уж что будет, Бог дал, пусть и возьмет.
Я просила:
— Мамка, сведи меня к доктору.
— Динка! Ты ничего не понимаешь! Доктор тебя будет иглой колоть. Лучше сиди на печи и не стони.
Но когда мне сидеть?! Сорок штук телят! Их надо вечером во двор загонять, да еще корова, овцы… Надо их на пастбище, в лесу найти, а ветками по голове ударяет. У меня свет темнеет от боли, а пожаловаться некому. Платок к голове прилипает. Я ее тёплой водой намочу и снимаю платок вместе с волосами и кожей. А еще вши кожу разъедают. У меня уже череп виден был, белая кость. Мамка видит, что я не умираю, и опять посылает к бабке, только уже в другую деревню.
— Спросишь там бабушку Аленку. Она тебе поможет.
— Я боюсь одна, — пусть со мной Венька идет.
— Вот еще, провожатого надо! Можешь не ходить, лихо-то у тебя, а не у меня.
И пошла я одна — страх берет. Я одна никуда не ходила. Трава выше меня. Иду, не дышу. Не ближний свет. До Лукерино идти восемь километров дремучим лесом, а потом — полями, так уже не страшно. Зашла я к бабушке Алене.
— Ну, что скажешь, девочка?
Я говорю:
— У меня болит голова, поэтому к тебе направили.
Я сняла платок, она ахнула:
— Господи! Да у ребенка весь череп прогнил! Есть ли у тебя мать, отец?
— Да. Мамка есть, а тятька от нас ушел.
— А, это Василий Никифорович твой отец? И мать знаю, Асафьевну. Отец видел твою голову?
— Нет, не видел. Он к нам давно не приезжал. Мамка не разрешает к отцу ходить.
— Тогда почему мать тебя к врачу не сводит?
— Она сказала, что меня будут иглой колоть, а я боюсь.
— Да вот твою мать бы надо кольнуть. Я с такой болью бессильна справиться. Пусть немедленно везут тебя на лошади в больницу. Ты можешь умереть: упадешь и умрешь. Но я твоего отца увижу, застыжу. Сам ветеринар, и так запустить ребенка. Ну, ладно, придешь домой, пусть твоя мать сварит в молоке ольховых шишек и мажет тебе голову.
И я пошла домой. Боялась теперь идти: как бы мне не упасть и не умереть. Мамке говорю:
— Бабушка сказала, надо наварить шишек на молоке и мазать голову.
— Ох, вот как! В молоке! А не сказала, в масле?! У тебя и так все зарастет, выживешь!
На голове у меня волосы остались только вокруг головы, как обруч, остальное от темечка, до ямочки на шее выпали. Уже целый год прошел с начала заболевания. Стало немножко подсыхать, и по всему голому черепу образовалась тонкая плёночка. Так волосы у меня больше и не выросли. Всю жизнь хожу в платке.
Что я делала? Пряла, за зиму много напряла. Теперь я уже и лапти плести могла. Дедушка заплетает, а я поначалу никак не могла научиться. Дед на меня ворчит: «Ну, ты и бестолковая». Если я — бестолковая, то тятька наш совсем не умел заплетать. У меня руки худенькие, не могу с берестой спрятаться. Хорошо, отец бересты про запас набрал.
Мамка не знала, как от меня избавиться. Отдала меня в няньки в Лукерино. Назло отцу.
— Динке нечего дома делать, только жрёт за всех.
Отправила к сестре Евдокии Осиповны — Анне. У них мальчик трех лет. Муж Анны работал бухгалтером, в колхозе, а она кормила свиней и уходила рано утром. Печь поможет мне затопить и чугуны поставить. Я должна сварить суп, кашу. Справлялась кое-как. Меня не ругали, а я была рада, — ешь, сколько хочешь. Ещё моя работа была — наносить воды, дров и дать сена козе. Иногда, вечером, отпускали меня к тятьке. Он мне говорил:
— Зачем это мать отдала тебя в няньки? Что, у вас хлеба нет?
— Не знаю, мамка говорит, что я много ем.
— Ну, Асафьевна меня уже допекла. Да с меня вам целый воз высчитали, да и сама она за трудодни получила.
Лида с Венькой приходили меня навещать. Я соскучилась и хотела домой.
— Лида, спроси у мамки, можно мне домой прийти. Тятька сказал, что у нас много хлеба, потому что с него высчитали. Лида, можно мне с вами пойти? Я буду очень мало есть.
— Нет, Динка, подожди ещё немного, потом я за тобой приду.
А мне так хотелось бегать по улице, кататься на санях, как мои сверстники! Ну, почему мамка от меня отказалась? Неужели я такая плохая? По дому все делаю, корову дою, за телятами смотрю, вода и дрова — всё на мне. Конечно, я теперь повзрослела, здесь мне жить спокойней. Меня не бьют, не ругают. Вот бы у меня такая мама была. Здесь я научилась сажать картошку, пропалывать лук, капусту; козу дою и вожу в поле на длинной веревке, и козлята с ней. Хожу и работаю везде с ребенком. Ему уже пошел пятый год — хороший мальчик, небалованный. Все хорошо, но все равно хочу домой. Зимой хотела заболеть: хозяева уходят на работу, а я выйду на улицу босиком и стою долго. Сначала ноги мерзнут, а потом уже и не чувствую их, и ничего — покашляю, посопливлюсь, а болезнь так и не приходит.
1940-й год.
Так же живем, без больших перемен. Но уже немного лучше. Урожай хороший, хлеба всем хватает. Стали заговаривать, что скоро начнется война, но еще не знали, с кем воевать будем. Раскулаченные семьи, уехавшие из нашей деревни жить на Украину, стали приезжать обратно -боялись войны. Мы жили в лесу и не знали, что в мире делается. Ни радио, ни газет не было. Но знали хорошо, что страной управляет Сталин. А налоги дерет с колхозников — Рыков. Частушку пели: «Спасибо Сталину мы скажем, что хоть по коровушке оставил. Будем Рыкова просить, чтобы масла не носить» и ещё: «Принесли повестку в суд, я иду трясуся, присудили сто яиц, а я не несуся». За эти частушки одной женщине как морально неустойчивому элементу дали два года тюрьмы, а у неё четверо ребятишек. Вот как прижимали тружеников, которые кормили всю страну.
Ох, война, война. Финляндия напала на нашу страну. Люди, успокойтесь, это не мы напали на финнов. Господи, чего финнам-то от нас надо? Объявили, что война продлится месяца три-четыре, но ведь мужики наши гибли. С колхоза взяли десять молодых парней, и все они погибли…
Ну, а как мы? Всё шло своим чередом. Лида уже пошла в пятый класс, в Рослятино, в район. Мамка нашла квартиру в Лукерино, — здесь рядом отец, иногда может покормить. А мамка сама теперь стала ходить по колдуньям и уносить хлеб. То рожь, то пшеницу пудами… Дедушка не раз ей говорил:
— Александра! Брось ты всё это! Колдуны тебя дурят, а ты им веришь. Васька и не думает уходить от Дуни. И хлебушек свой побереги. Ведь не каждый год урожай на хлеб. Ребятишки подрастают, надо больше в них и на них. Венька подрастает, уже может лапти плести. Я ему не один лапоть заплел, пусть учится. На будущую зиму в школу пойдет. Его бы подкормить, а то уж очень он худенький и маленький для своего возраста.
А мамке некогда за детями ухаживать. Все силы на возвращение Василия тратит. А воз и ныне там. На попутке меня отправили домой: мамка приказала привезти. Хозяйка дала два метра ситцу на платье и хозяин принес из конторы три карандаша. Вот это для меня богатство! Я так рада была! Сама заработала! Домой приехала…
Ой! Как всё изменилось: потолок стал каким-то маленьким и низким. Я показала свои подарки, и они тут же определили: вот из этого ситца сошьем кофту Лидке, а карандаши — Вене. Я — в слезы!
— Почему так? Это я заработала, и мне ничего?! Я тятьке скажу!
— Говори, говори, у него и проси. Или иди у мачехи проси. Она тебе тоже нравится. Купит тебе платье. А пока что сиди на печи в холщевке.
— Мамка, дайте мне хоть карандаш!
— Венька, брось ей карандаш.
— Чего ты будешь с ним делать?
— Как чего? Я буду писать, я все буквы знаю.
Начало 1941 года. Все идет потихоньку. Лида закончила шесть классов. Мамка так и кормит колхозных телят. Я днем лапти плету, вечером пряду, а Венька, как заправский плотник, строгает, пилит, делает себе коньки и лыжи под диктовку дедушки. Теперь и с горки катается, доволен, гордится перед своими сверстниками. Однажды с ним произошел такой случай. У нас в деревнях воду зимой возят на лошадях и на санях. Ставят большую бочку — ведер на тридцать-сорок. Она за зиму покрывается льдом снаружи и внутри. Когда воду из неё выливают, заваливают на бок, чтобы не замерзали там остатки, — так она и лежит. Сани с бочкой стояли у нашего дома. Веньке захотелось поиграть: залез в бочку, раскачал, она опрокинулась на Веньку и стоит вверх дном. Мамка меня послала:
— Иди, Веньку найди, обедать будем.
Я по деревне пробежала, нигде его не видно. Спрашивала у ребят — никто его не видел. Подхожу к дому, слышу Венькин голос — мамку кричит. Я не пойму, где он. Думала, на чердак забрался. Потом сообразила: бочка стоит вверх дном, подбежала:
— Венька, ты в бочке, что ли?
— Да, да! Быстрее выпусти меня. Я залез, а она опрокинулась вверх дном.
— Мне не опрокинуть бочку, сейчас позову мамку. Только уговор: ты больше не будешь на меня сваливать, когда сметану сам съешь, а за это попадает мне.
— Никогда не свалю на тебя! Честное слово!
Мы с мамкой опрокинули бочку. Венька весь посинел! Оказалось, что он долго сидел, молчал, боялся: мамка заругается. Пришлось баню топить — отогревать Веньку.
И ещё был с ним случай зимой. Залез на тонкую березу, хотел покачаться, как летом, — мы так качались — ухватился за макушку дерева и повис, думал: качаться будет. Береза треснула, и он приземлился на мерзлую землю, ободрал руки, голову, уши.
А однажды ехал на лыжах и упал с горы — разбил колено. Увезли в больницу. Долго лежал. Отец приходил навестить. Венька рос каким-то необыкновенным, умным, отличался от сверстников.
Мамке дали лошадь, чтобы пахать. Лида в школе. Я пасу телят, сорок штук. Утром мамка будет меня в пять часов: надо телят выгонять на пастбище. Весна холодная: то дождь, то снег летит. Ноги очень мерзнут — целый день в воде, за телятами бегаю: они разбегаются в разные стороны. Травы ещё только начала расти. Лапти быстро рвутся. За неделю залохматятся, а плести некогда. Скоро пахать свои участки. У всех колхозников по 25 соток. Мы половину сажаем картошкой и половину засеваем ячменем. Лук и брюква растет без полива. За капустой, морковкой и редькой нужен уход: прополоть, окучить. Этим занимались вечерами и ночами, -выходных-то в колхозах нет. Работали от зари до зари.
Если с посевной управлялись, то в праздник, Троицу, всем давали по два выходных. Этот праздник в Лукерино отмечали всегда. Делали качели круговые, и четыре крепких мужика качали за деньги всех желающих. В этот день в Лукерино сходились со всех деревень. Деньги были не у каждого. А покачаться всем охота. Ну, тут и смех, и грех — качали за крашеные яйца. У всех в этот день были красные яйца, как на Пасху. Столько народу собиралось! Гармошка играет, песни, пляски в этот день. Единственная отдушина — встретиться с родственниками. Все радовались и веселились. Но денег ни у кого не было — в колхозах не давали. Все разодетые, нарядные, но всё равно в лаптях. Не думали, не гадали, что через десять дней начнется война. Всю землю вспахали, засеяли, заборонили.
Теперь другая работа. Кто покрепче и помоложе — рубят березу: нужно заготавливать для сушки овинов. Некоторые идут огораживать пастбища для скота, другие возят навоз под пар. На поле рожь сеют под зиму. Я всё телят пасу. Вечером загоню во двор и сразу за домашние дела принимаюсь: сходить за коровой, сбегать за овцами, пригнать их домой, воды наносить, дров принести к печи. Слава Богу, Лида пришла — каникулы у нее. Мне будет чуть-чуть полегче. Иногда воду носили с Венькой: два ведра зачерпну, проденем за дужки на коромысло ведра и несём, всё — полегче. Один раз несла на коромысле полные ведра воды. Встретилась мне женщина, говорит:
— Ты что такие ведра таскаешь? У тебя горб вырастет на спине. Мать тебе разрешает носить?
Я говорю:
— Она меня хвалит.
У нас в глухом краю немного было развлечений. Чтобы не скучать, народ решил в деревне Лукерино срубить качели. Да какие! Не маховые, а круговые. Два стояка еловых врыли, потом сложились на вино и пошли на кузницу звать Степана, класть поперечное бревно. Степан-то справится небось. Сперва шла простая работа. А дальше искусство началось. Взвалил Степан лесину на загривок и степенно, как под куполом циркач, полез по лестнице. Все затаились, как дети, а Степан, чуть живой, всё лез и лез. Его сухие скулы напряглись от нагрузки. Но все сработал споро, как надо. Сел закурить на радостях, и начались тут разговоры о деревенских силачах. Вся деревня рядила и судила: кто сильней, Степан иль дед Пармен? А может, Иван Парменов?
Еще вчера веселились и смеялись, а сегодня замерли от страха. Приехал к нам председатель колхоза, сообщил:
— Давайте срочно все сюда собирайтесь. Я привез страшную весть. Война! 22 июня Гитлер напал на нашу страну.
Кто такой Гитлер? Откуда взялся? А он отвечает:
— Это Германия. Я привёз повестки из военкомата. Слушайте, кто идет завтра на фронт: Баженов Иван Васильевич, Баженов Иван Иванович, Баженов Степан Иванович, Баженов Алексей Иванович, Немкин Алексей Степанович, Немкин Павел Степанович. Всех на фронт.
Господи! Да как же всех мужчин увезут! Как же нам жить, детей воспитывать?
— Завтра к восьми часам быть в Рослятино. Сбор у военкомата. С собой взять сухари на пять суток, ложку, кружку и табак. Давайте, бабоньки, сию минуту, хлеб пеките и сушите. Надо.
Тут все женщины и дети заголосили. Такой рёв стоял! Кто на землю падал, визг, плач. От такого плача лес пригнулся. Нашего отца оставили на брони: нужно отбирать лучших, сильных коней на фронт.
Вся наша жизнь круто изменилась. Со всех деревень на фронт взяли всех мужчин и всех молодых парней. Девушки сами напрашивались и шли воевать. С финской войны год как пришёл Павел Немкин — весь израненный, без руки и без одного глаза. Его сразу назначили председателем колхоза. Деревни опустели. Коней всех хороших угнали. Остались одни клячи. И плуг не могут тянуть. Слава Богу, что поля уже засеяли, всходы — хорошие. А вот как урожай убирать будем? Коров и годовалых телят увозили до Вологды — всё для фронта. И сразу пошли агенты. Обложили непосильными налогами: 45 килограммов мяса, 300 литров молока или масла пять килограммов, овечьей шерсти — килограмм, сто штук яиц, и на заем в 300 рублей подпишись. Никаких отговорок! До нового года надо выплатить, иначе заберут корову. А где нам взять столько денег? Откуда? И как прокормить корову, если не давали накосить сена для своего скота? По трудодням дают, сколько их выработано. За год это один центнер, а корова за зиму съедает тридцать центнеров. Мамка кормила телят на чужом дворе. Мы с Лидой ночью ходили за сеном с пестерем большим, сделанным из осиновой дранки. Набивали его и тащили на санках. А мамка приносила сено в мешке, чтобы не натрясти на дороге. Этот 41-й год прожили безбедно, были кое-какие запасы. Ну, а главный продукт — картошка. Но вот беда — не стало соли, спичек, керосина. А без соли — хуже всего. Осенью резали баранов, варили, но бульон без соли, как вода. Кто поумней, те запаслись солью и керосином. А мы делали лучину из березы: поленья совали в горячую печь, распаривали, и они хорошо щипалась, поэтому был свет. Конечно, от лучины много сажи. Утром встаем, все в саже, как будто трубу чистили. Спичек нет — не велика беда, приспособились. Старики из железа ковали кристало и продавали: за два яйца одну штуку. Мамка отправила нас с Веней:
— Идите к отцу, просите спичек и соли.
Мы нашли тятьку в конторе. Он очень нам обрадовался:
— Ну что, опять вас мать отправила? Что на этот раз ей нужно?
— Мамка велела просить у тебя спичек и соли.
— О, Боже! Она знает, что идет война? Откуда я всё это возьму? Я тут сам жду повестку, на фронт отправят. Уже с фронта похоронки идут. Ребята, вы уже большие, надо войну пережить. Венюшка, милый сынок, я дарю тебе вот это кристало. Будешь им выбивать огонь. Большего подарка у меня нет. Закончится война, и заживем счастливо. Всё у нас будет.
— Тятька, а ты к нам придешь жить после войны?
— Да, да, конечно.
Веня ходит в школу, теперь в Лукерино. Живет у дедушки Пармена. Лида учится в Рослятино и живет на квартире у двоюродной сестры в Офуньково. Я не успеваю плести им лапти.
Январь 1942 года. Веня и Лида на каникулах. А меня мамка отправила:
— Унеси, Динка, петуха в Рослятино или в село.
— Мамка, я боюсь одна. Венька со мной пусть идет.
— Еще чего! И так парнишка весь измерз.
Ну, что делать, посадила петуха в кузов.
— Мамка, а как продавать? За что?
— Проси платок и Веньке рубаху.
— Мамка, а как мне: по избам ходить или на улице стоять и кричать?
— Ой, до чего ты дурнуха и дура. Нигде таких нет.
Пошла. Мороз под сорок, коленки замерзают — штанов нет. Рукавицей потру, и опять иду. Дорогу замело. Иду, плачу. «Почему мамка Лиду не отправит? И почему Нина и Рая не ходят продавать? Их матери не отпустят детей. Сами ходят по всяким делам». Кое-как дошла до села. Зашла в дом, попросилась погреться. Попались хорошие люди:
— Можешь разуть лапти, ноги нагреешь. Куда ты идешь, дитя?
— Мамка меня отправила продать петуха.
— В такую стужу и собак не выгоняют на улицу. Чья ты, девочка?
— Мамку зовут Асафьевна, а отец Василий, но он от нас ушел.
— Господи, да что это Асафьевна, сама не смогла прийти? Мы знаем твоих родителей, вот уж постыдим их. А теперь садись, поешь.
— Не хочу я есть.
— Да как ты не хочешь? Такой путь пройти!
Я робко села к столу. Мне дали супу и хлеба магазинного. Ох, как все вкусно!
— Что тебе мать сказала, сколько за петуха просить?
— Мамка сказала: платок и Веньке рубаху.
— Ну, что же это у вас за золотой петушок! Никто тебе столько не даст. Хозяйка говорит:
— Я дам тебе метр ситцу на платок и чулки поношенные.
— Конечно, я очень вам благодарна.
И сытая, радостная пошла до Лукерино, ночевать к дедушке.
— Откуда и куда идешь в такую стужу, — спрашивает дед Пармен.
— Я ходила в село, продавала петуха, — и показала, что мне дали за него.
Вся их большая семья собралась, удивилась: вот какая девчушка! Поменяла петуха на вещи! Разве наших девок пошлешь? Тут забежал тятька, ему доложили, откуда я пришла. Отец говорит:
— Эта Асафьевна — чудовище!
Все мужчины уходили на фронт. Народу собралось — наша деревня, и из других деревень пришли. Плачут все: и стар, и мал, и мужики тоже плачут. Будут ли они живы? Обещают, что «мы вернемся живыми. Разгромим врага! Мы сильнее фашистов!». Я не могла проститься с тятькой, — он уже сидел в санях. Женщины протолкнули меня к отцу. Он увидел:
— Динушка! А где Венька и Лида?
— Да они не знают, что ты идешь на фронт.
— Как не знают? Я нарочного отправлял туда к вам на лошади! Отец подал мне руку.
— Ну, Динушка, прощай!
Я ждала, что он со мной ещё поговорит, а он простился со мной, как со взрослой. Жена его тоже сидела в санях, оба — пьяные. Я вылезла из толпы и заревела что было сил, пошла домой. Встретила Лиду. Она говорит:
— Я пойду до Рослятино, их ведь не сразу отвезут.
— А Венька не пошел с тобой?
— А куда в такой холод?
Я пришла, рассказала мамке — как провожали:
— Все плакали. Тятька был очень пьяный, не поговорил со мной, только спросил, почему Веня и Лида не пришли. Мамка, если тятька погибнет на войне, как мы будем жить?
— Если ваш отец погибнет, то хоть не достанется этой корявой твари!
— Мамка, зачем ты так? Все о нашем тятьке плачут, вся деревня. Он для всех хороший, всем помогал.
— Динка, хватит, расквасила рожу. Много ли вам он помог?
Я залезла на печь и там дала волю слезам. Венька тоже заплакал.
— Венька, почему ты не пришел проводить тятьку?
— Я не знал, мамка не сказала. Тятька придет с войны, я буду с ним жить.
Да будет так… Жизнь продолжается. Венька очень переживал за отца: перестал есть, плакал до истерики. Говорил: «Если тятьку убьют, то я пойду фашистов убивать». Мамка пошла к бабке Арине, чтобы Веньку попарила в бане с молитвами, совсем парнишка ослабел. Ему мамка сказала:
— Бабушка Арина попарит тебя веником и всё пройдет, пойдешь в школу.
Венька научился выбивать огонь и, когда находился в школе, без него было плохо. Мамка рано утром его разбудит. У него камень — кремень светло-коричневый. Прикладывает к нему кусочек высушенной чаги, к ней хорошо искра пристает, а потом к угольку придувает и лучина зажигается. Соседи увидят у нас свет и бегут за огнем. Венька такой худенький, ручки тоненькие, а огонь выбивает. Соседи говорят: «Спасибо тебе, дорогой Венюшка, наш человечек, спаситель! Как только куры будут нестись, мы всей деревней дадим тебе по два яйца». Венька улыбается, гордится. Но и я тоже выбиваю, — всю левую руку до крови изобью, пока лучина загорится.
У дедушки пришел с войны старший сын, Александр, — израненный, колено раздроблено, одна нога прямая, на костылях ходит. Все так рады, что жив остался. Вся огромная родня собралась: радовались, плакали. А у нашей тётки Кати сын погиб. Пришла похоронная. Единственный сын был у родителей. Горевали всей деревней. На мамкиного брата, Василия, похоронка пришла. У ее сестры, Афанасьи, погиб сын Николай. Это — ужас!
Мы жили далеко от района. Не слышали, как там, будет ли конец войне? Из других деревень едут через нашу деревню, и такие страсти рассказывают: будто немцы скоро возьмут Москву, а нас всех сожгут. Как будто кидают в наших солдат такое вещество, что вода в реке кипит. Все газеты об этом пишут. Мы — ребятишки, говорим бригадиру:
— Не будем работать! Нас всё равно убьют фашисты.
— Это ещё что такое! Кто вам сказал!
— Да вот люди, идут на сенокос с Челищево.
— Это всё неправда, наши скоро фашистов разобьют. Верьте в Победу. Работать надо. Лен поспел. Это вам под силу. Дети! Этим мы поможем фронту. Кто больше льна вытеребит, о том напишут в газетах.
— Нам есть охота! Когда дадут хлеба?
— Ребята, хлеба в ангарах нет, ни зернышка. Чем кормить народ? Лен вытеребили, снопы просохнут, их обмолотим и семя дадим.
— Миша, так это будет через неделю или две, а есть сейчас охота.
— Теперь лето — можно клевер поесть, головки, да из листьев липовых лепешки спечь.
— Это мы и без тебя знаем! Каждый день — клевер да щавель! Во рту обвертело от такого питания. Да и время надо, чтобы насобирать хвощ да липу найти: весь липняк в округе ободрали. А клевер председатель запретил рвать, без семян останемся.
Бригадир у нас инвалид с детства: одна нога больная, на костылях ходит. Он из другой деревни, из Лукина, это два с половиной километра. Как он только забирался на гору?! Мы жалели его. Приходит рано, обычно часов в шесть. Соберет людей посреди деревни.
— Сегодня председатель разрешил вам поесть горох. Я отведу вам участок — соток десять. Можете рвать и нести домой. Собирайте стручки, но только с этого участка.
Мы обрадовались. Всей гурьбой с корзинками бегом бежим поесть от пуза. Откуда сила взялась?! Время уже к полудню, а мы всё стручки щиплем, едим и в корзины бросаем. А вдруг завтра не дадут такого лакомства?
Мы получали от отца письма, хорошие письма. Он просил нас: «Милые, дорогие дети! Растите смелыми, умными, честными. Не будьте такими, каким был ваш отец. Дорогие мои деточки! Время у нас ещё хватит. Я искуплю свою вину перед вами. Разгромим врага и будем жить счастливо. Я не знаю, простите ли вы когда-нибудь мое предательство. Искалечил ваши души. Признаюсь, я даже не могу вспомнить дорогие мне ваши лица. Лида! Ты уже взрослая. Пожалуйста, сходите все и с мамкой в Рослятино, сфотографируйтесь, пришлите мне снимки, я очень-очень буду рад, до слёз. Получил ваше письмо. Как раз лежал в госпитале: немножко осколком зацепило. Из письма узнал все новости и горести. Не тужите, что крыша прохудилась. Скоро разгромим врага, новый дом срублю с балконом. Обращаюсь к тебе, Александра Асафьевна! Если можешь — прости меня. Сколько я тебе горя принес, позора. Я во всем каюсь перед Богом. Это просто черт меня попутал из-за пьянки. Просьба к тебе: береги детей! Трудно будет — зарежь корову, не мори детей. Я понимаю, что вам трудно. И ещё прошу: пусть Венюшка сам мне напишет, своей ручкой. Не подсказывайте ему. Пусть что думает, то и пишет. Я нахожусь на передовой. Два раза был ранен. Пишу это письмо уже дней десять. Получил письмо от вас. Званье мое — санитарный инструктор. Если так случится, я погибну, то не думайте, мои дорогие, что ваш отец был трусом. Я не страшусь смерти. Иду на врага за вас, за ваше светлое будущее. Получил ваше письмо и с вырезкой из газеты «Сталинский ударник». Милые мои, родные! Даже не верится, что все вы, мой сын в тылу, далеко от фронта, а так метко бьете словами фашистов. Лидусенька, милая, опиши, пожалуйста, подробней, Венюшка ли это так сказал?! Какой он умница! Я эту газету выучил наизусть и отдал нашему командиру полка. Он нам ее перед строем читал, у всех настроение поднялось. Венюшка, сынок! «Мы клянемся бить врага до последнего вздоха», — такие слова, сказанные ребенком, моим сыном. «Я, ученик 1 класса, Баженов Вениамин, даю деньгу 100 рублей и прошу вас, дядя, на эту деньгу заказать пулю, и пусть эта пуля попадет в самого Гитлера. И наши отцы живыми вернутся домой».
Нашу Лиду поставили кладовщиком, её не спрашивали, будет ли она тут работать, мамка одобрила — будет работать, она у меня умница, грамотная, 6 классов окончила. Но Лида в слезы, мамка, дай мне закончить 7-й класс, не хочу в кладовщики. Лиденька, Бог с тобой, эта работа легкая. Лида со слезами приняла 2 амбара. Один — в Лукине и в своей деревне амбар. Амбары пустые, только и всего, что сбруя для коней, хомуты и всякие детали железные к плугам, боронам и прочая утварь. Кроме зерна в складах.
1943 год. Зима очень холодная, ещё хуже голод. Молотили клевер семенной, семя на склад, а отходы делили на всю деревню. Раньше скоту давали, а теперь сами рады, едим это полово, черное, как уголь. Его сушили, толкли в ступе, с этой пыли пекли лепешки. Рады были и этому. Картошку съели по осени. Пока она росла, мы её подкапывали. Не дали ей вырасти. Что дальше? Мамка плачет: «Динка, хоть ты бы умерла, мне бы все полегче было». — «Мамка, я не умру, пусть Венька умрет. Он худой, как скелет. А если убивать будешь, то я убегу в лес». Она говорит: «О, вот хорошо было бы, с глаз долой». — «Мамка, а кто тебе будет воду носить, дрова и корове солому рубить». Не знали, как дальше жить, как выжить до весны. Всей деревней перешли на опилки. Занесем в избу березовый чурбан, подлиннее, чтобы вошел в избу, пилим, но сил нет. Венька не слезает с печи, совсем обессилел. Мы с Лидой упадем на холодный пол и опять пилим. Опилки подсушим, толкем в ступе и тоже печем лепешки. Но это хуже всего, еле проглотишь, скольженья нет, насильно проглотишь, а вот как выпихнуть изнутри? Желудок наполнен опилками, и никак не вытолкнуть. Такая боль в животе. Выходили в стайку, соломы постелем и там пальцами достаем опилки. Все плачем от боли.
Пришло извещение от председателя — всем колхозникам выдать по 3 кг льняного семени. Как мы обрадовались! Это семя протравлено дустом, приготовлено к севу. Нам объявили: семя нужно промыть в 10 водах, а то умрете. О, Боже! У нас сил нет — принести воды. Носили снег, таяли его и мыли семя, но оно никак не отмывается, потом сушили это семя. И надо ещё растолочь его. Долго возились с семенем, пока довели до сушки. Потом толкли, а ступа одна на всю деревню. Очереди. Очень радовались — наконец поедим льняных лепешек. Это лучше, чем опилки. Мамка достала из печи противень с лепешками. О! Какие красивые, коричневые! Согрели самовар, едим лепешки, вкусные, чаем запиваем. Все съели по 2 штуки, улыбаемся, как хорошо живем. Но рано радоваться. Венька вышел из-за стола и упал. Мы все упали, невозможно стоять. Так кружит голову и тошнит. Мамка с Венькой на печи стонут. Мы с Лидой на полу катаемся, обе ревим. Невозможно даже голову поднять, не знаем, где пол, где потолок. Даже свет в глазах темнеет. Говорить нет сил. Пришел к нам бригадир Мишка, на костылях, увидел нас лежачих, взмолился: «О, Господи! Вся деревня лежит, не может встать. Что мне делать? Надо лен мять, а весь народ лежит. Я боюсь, как бы кто не умер. И так народу нет. Асафьевна, давай вставай потихоньку, я тебе помогу слезть с печи. А теперь я вам принесу ведро снега». Ну, кое-как встали, голову и лицо натирали снегом. Вроде бы приходим в себя. Пол не качается, и окна на месте, голова болит. Решили, лучше голодом, чем есть эту отраву. Сообщили из Лукино — колхозная картошка в погребе вся сгнила. С осени дожди, подтопило, зимой замерзла эта картошка. Дали всем по ведру этого месива. Очень обрадовались! Чистили, вытряхивали из кожуры почерневший крахмал. И сразу в рот, не поняли: хорошая еда или плохая. Нам все равно. Жрать все время охота. Можно медведя в шерсти съесть, лишь бы желудок наполнить. Мы приспособились варить от сена труху. Полный чугун набиваем, заливаем водой. И варим густой напиток. Пьем по кружке и вроде бы и есть не хочется. У нас корова, а что толку, если она ест одну солому. Обольем солому уриной, а её в избытке. За ночь почти ведро вчетвером нагоним. Пьем одну воду вместо хлеба. Государству надо сдать 5 кг масла, а с чего? Если корова летом сытая, дает молока 4 л. Пьем обрату.
Поэма
О березе, которая росла у самой дороги, недалеко от нашего дома. Она очень высокая и нагнулась. На этой березе до войны наш отец вырезал свое имя и отчество. Мы ходили каждый день мимо неё и всегда обязательно подходили к ней и гладили этот вырез. Как бы общались с отцом. В деревне знали, что эта береза наша. Иначе давно бы спилили бы её на дрова. Когда ещё Венька был маленький, мамка спросит: «Венюшка, где ты был? Я тебя искала». — «Как где? Я ходил к тятькиной березе. Я только прижался к ней и не плакал». Итак, пишу о своей березе.
«Ты стоишь и стонешь, на ветру качаясь, ох, березонька кудрявая, почему ты над дорогой так накренилась, аль поклон от тятьки сохранила нам. Вокруг тебя бушует жизни море, и гром и ветер над тобой. Шепчут листья твои неведомо, как пошла о тебе молва. Под какими такими бедами наклонилась твоя листва? Вокруг тебя, березы есть высоки и густы, и тишина красноречива. Одна ты с детства нам запомнилась, и кажется, баюкала ты нас. Под многолетним кровом крон стволы поскрипывали тихо. Здесь каждая сосна и ель — отдельная большая книга. В твоем лесу давно уж нет покоя. Там скрежет пил и топоров. И не получилось бы такого: чем дальше в лес, тем меньше дров.
Ты захочешь слышать волны, ты захочешь видеть то, что постичь до чаши полной лишь на Севере дано».
Слава Богу! Зима кончилась, и мы живы. Эта зима самая лютая была, холодная и самая, самая голодная. Все люди, как скелеты ходячие. Даже разговаривать не могли вслух, шепотом говорили. А ведь надо вода, дрова, сено, солома, скот тоже есть хочет. И скулим: мамка, есть хотим. «Не знаю, чем вас накормить. Сейчас я вам наварю супу. Помните, отец ваш делал дратву?» Мы помним: отец шпагат для подшивки валенок натирал куском свиной шкуры с салом и капал на него дегтя, тогда дратва получалась черная, крепкая. Это уже года прошли, эта шкура засохла, как железо. Мамка вымачивала её неделю и варила целый день. Конечно, сварилась шкура со щетиной. Разрезали по кусочку и радехоньки были. И ещё пили чай, сваренный из сена в чугуне, и хорошо, держались на ногах. Мамка всегда говорила нам: подождите, ребята, скоро война закончится, дадут нам муки, напеку пирогов, вот уж поедим. Венька говорит: всем по целому пирогу? И Динке тоже? Да, да, да, всем. Дедушка Веньку научил петли ставить на зайцев. У него получилось, в первый раз попался в петлю заяц. Он так был рад. Связал ему ноги и идет по деревне тихо-тихо, чтоб видели, какого зайца словил, а сам маленький, заяц по земле тащится. Как мы рады, и все рады были такому счастью. За весну словил четырех зайцев, и мы ожили. Но соли нет, и никак не привыкнем без неё. Тут радость: Лида сообщила, что привезли соль на склад. Будут давать по 100 граммов на человека. «Динка, приди на Лукино, и скажи всей деревне, пусть тоже придут». Я сообщила им. Пока несла соль, и всё лизала, и все так же — шли, и все лизали, как мёд, так соскучились по ней!
И ещё у нас была кошка Лизка, каждую весну нам таскала зайчат, пока они ещё не доросли. А подрастали, тогда она уже не могла словить. Она понимала, что у нас есть нечего, у нас и не просила. Зимой ходила, мышами кормилась. Иногда тащит зайчонка, кто из соседей увидит, кричит нам: Асафьевна, встречайте кошку с зайцем! Мы когда шкуру сдирали с зайца, её резали на мелкие куски и голову варили ей. Она любила.
Немного о себе
Если взять мои с детства годы, год за годом, и поставить в ряд, то при шуме любой погоды эти годы заговорят. Сколько тяжких снопов повязано, сколько скошено трав и отав, сколько стерплено, да не сказано, сколько сказано, да не так. Сколько радостного загублено, сколько люблено — не долюблено. Сколько вымолвить не дано. Если взять воедино слезы, что мне довелось пролить, то не вьюгам и не морозам, слез горячих не остудить,
О своем почерке
Не самое главное в почерке — пусть мои буквы так неразборчивы, так некрасивы, что трудно прочесть их, но если правда в строках косых, что может прекраснее их.
Люблю я богатство лесное, люблю переливы снегов. Скачут белки, еловые шишки луща. Чистый лес, ни змеи, ни клеща. Тихо спускается ночь на поляну. Лес и луга, и бегущие реки. Нету здесь места ни лжи, ни обману.
О своем сердце
Сердце, сердце, что же это такое? Ты стучало четко, жизнь любя. А все чаще перебои в пульсе ощущаю у тебя. Вот уже мокра спина от пота, но иду, иду, а хоть ложись. Или ты устало от работы, сердце беспокойное, скажи? Гнев и горе, радость и печали, всё смогло ты уместить в себе, ты стучи, стучи, работай, сердце, и своих позиций не сдавай.
Как часто я живу уныло, перебираю жизнь свою: что, что в ней истинного было? И от бессилья слезы лью.
Я прощаю своих родителей. Хорошо выплеснуть на бумагу всю боль поруганного детства. Крик облегчит боль. Вот так мои родители жили. При них 3 революции были, много лет с голодовками, много зим с холодовками. Ах, родные, когда ж вы любили, если вечно заняты были? И нежность совсем не в моде, их вся судьба на народе. Да еще забота родительская, работа в колхозе, на пашне, на хилых конях мучительная. От войны до другой войны вы отдыха не ценили. А потом от отца похоронную получили, что погиб на Курской дуге. Ходит мамка моя невеселая по своей земле, и у мамки волосы белые, и наши письма у ней на столе.
Лето. Венька научился ловить рыбу. Мелкая рыбешка, хаирус и ершики. Варили уху, да и еще и подсоленную. Это такое кушанье — и не передать! А ещё бы к этой ухе да кусочек хлебушка, так соскучились! Забыли, как пахнет хлеб. Если родители нас отпускали, мы собирали землянику. И всей гурьбой шли в село, продавать. Мы с Венькой набрали 4 стакана и продали по 15 копеек стакан. Такие довольные, и всем табором бежим в лавку, покупали сладкий морс. Уж очень хотелось сладкого. По стакану все выпили. И всегда шли к пекарне и вставали вокруг нее, нюхали запах хлеба. Устанем, встаем на колени, вдыхаем хлебный запах. Довольные, приходим домой. Рассказываем, как нам было хорошо. От выручки, остатки копеек отдавали мамке. Она хвалила нас. Теперь сенокос. Я тоже хожу с Лидой, косили. Венька пасет телят, а мамка пашет под пар. А когда мы все работаем до темна, Венька коров доит, и молоко сходит на сепаратор пропустит. В деревне все удивляются, какой умница парнишка у Асафьевны! «Худощавый, низкорослый, средь мальчишек всегда герой. Часто-часто с разбитым носом приходил к себе домой. И навстречу испуганной мамке он цедил сквозь кровавый рот: ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму заживет».
Этот случай был со мной
У нас коровы паслись сами по себе, на пастбище. Пастбище огорожено крепкой изгородью, чтоб не убегали на Пеженгу. Вечером ходили, загоняли домой. Моя очередь была. Я пошла с деревни, слышны колокола, на каждой корове звонок или колокол, слышно над Пеженгой. Стало загонять, всё спокойно было, иду за ними. Вдруг коровы чего-то испугались, хвосты задрали, замычали, и все врассыпную убежали. А я больше их испугалась: не знаю куда бежать. Рядом была сосна, но сучья высоко. И я полезла, не помню, как взлетела на сосну, захватилась за сучья — там уже легче лезть. Коровы убежали. Я сижу на сосне высоко, всё мне видно сверху, и вдруг кусты зашевелились, и я увидела медведя. Он перемахнул через огород. Что мне делать? Как спуститься на землю? Стала спускаться, ляжки ободрала, юбка на мне вся в клочьях, и клочья от юбки остались на сучьях сосны.
Теперь настала самая горячая пора — жатва, уборка урожая с полей, днем и ночью работали. «В моих ресницах, опаленных зноем, в изгибах выцветших бровей, хранится самое родное -просторы солнечных полей. И вижу небо, и слышу я страды огонь. И пахнет нивой, пахнет хлебом моё лицо, моя ладонь». Лида ушла в Лукерино с отчетом — сколько намолотили зерна и сколько сдали государству. Весь день жнем, а вечером молотим. Овин высушен. В ночь везем зерно, сдаем государству. Колхозы соревнуются, кто первый закончит сбор урожая, кто больше сдаст зерна, тому колхозу премия — каждому колхознику дадут по 100 г на человека сахарного песка и один кусок мыла на семью. Мы со всей силы старались, чтоб победить. Теперь нам давали ржи по 1 кг на человека. Сушили, мололи на крупу. Варили похлебку и кашу с примесью клевера и полевого хвоща, иначе не хватит на неделю этих 4 кг. Уже картошку подкапываем, опять съедим её, а копать уже нечего. Жнем, колосья растираем в руках, сдуваем колючки, набиваем полный рот зерном и жуем. Но если бригадир увидит, скандал закатит. Мамка жнет и ворчит: почему Лиды долго нет? Вот она идет, прямо в поле. Я смотрю на Лиду -что с ней? Она села на снопы, подошли к ней, она не может сказать. Пришла похоронка на отца, умер в лазарете от ран в Курске, похоронен в районе. Тут у меня ноги подкосились, я упала, заревела. Тут сбежались к нам женщины, тоже заголосили. Тут только мамка жнет, не отклоняется. Женщины закричали на нее: что ты, Асафьевна? Неужели у тебя нет сердца? Погибшему Василию не простишь? Вдруг мамка порезала серпом палец, кровь течет из пальца, она смотрит на него. Тут женщина сорвала траву тысячелистник — на, Асафьевна, привяжи к пальцу. «Василий, если бы остался жив, — это люди уже говорят — то пришёл бы к вам. Ведь эта стерва Дуня родила девочку от Ивана Михайловича, а ведь у него шесть ребятишек. Иван сам-то весь израненный, не хватает жены, совсем одурел!».
О моем родном крае Вологодчине
Ох, люблю я до сих пор над Евховоцом темный бор. Уж как лапти я обую, да возьму с собой топор, да пойду, да посижу под сосной высокою. Посижу да погляжу, подивлюсь, поокаю. В темном нашенском бору много всякой всячины. Ох, ты бор, ты темный бор, что в нем только деется! То бежит к ручью бобёр, то идет медведица. Я сижу на пне часами, обжигает тело зуд, муравьи меня кусают, комары меня грызут. А сижу я не напрасно, я бересту обдираю и про Пеженгу пою. До чего у нас прекрасно, в нашем-нашенском краю! Ох, люблю его, холеру! Вот уж край так край!
После похоронной на отца в доме какое-то затишье. Все молчали. Не хотели ни с кем говорить. Конечно, плакали, но все прятались по углам. Мамка в хлеве, Лида уходила рано в Лукино на склад, зерно принимать и отправлять государству. Я убегала в свой уголок, под елку, наплачусь и иду в поле жать. В поле не заплачешь — кругом народ. А я стыдилась. А Венька залезал на свою елку, высокую, густую. Иногда я подкрадывалась к нему, прислушивалась, что он там делает на высоте. Часто он там читал свои учебники. Задание на лето. Иногда он песни пел. Эти песни — «И кто его знает…» или «По военной дороге шел в борьбе и тревоге…». И любил петь «Ждет-пождет Ивашкина милашка в старом доме у реки». Иногда таблицу умноженья зубрил, стихотворенья, но я никогда не говорила ему, что подслушиваю его. Иначе он уйдет в глубь леса, и там я его не найду.
Теперь немножко легче с питанием, картошку подкапываем, брюква поспела. Это для нас самое вкусное — лучше конфет. Мы её хрумкали сырую, идешь в поле и на ходу чистишь серпом. Грызем до поля. Мы её еще парили. Которая поменьше — набивали ведерный чугун, ставили в жаркую печь, и парился до вечера. И так мы ждали вечера! Вытащим из печи, брюква коричневая, а внизу сусло. О! Что это за наслаждение, и не передать! Заулыбаемся, довольные. А животы от пареной брюквы как барабан. Хоть палкой бей. Вчетвером ведро съесть пареницы, да и сусла по чашечке каждому. Картошку терли на терке, а терка с петровских времен, если не старше. Вся истерлась. На железке одни дырочки, никакого зазора нет. Веня где-то нашел консервную баночку, ржавую. Начистили её, дырок наделал Веня, и радёхоньки. Этой баночкой терли картошку полведра, изотрем, да две-три горсти крупы. И все это в квашенку, и до утра стоит, киснет. Утром делали лепешки. Если мы уходили на работу, то Венька пек. Мамка только печь затопляла, он один управлялся дома. Лиду нашу приняли в комсомол. Она гордилась, всем показывала билет. А мне по носу шлепнула: «А я-то комсомолка, а тебя никогда не примут. Тебе только лапти плести, да веревки к ним вить» . Обе с мамкой хохочут, но я тоже стала огрызаться: «Когда я вырасту, я буду большевиком, как тятька». Потом они меня звали большевичкой.
Слухи идут, что наши скоро Берлин возьмут. А похоронки идут каждый день. С нашего хутора погибли 4 мужчин. В Лукине — 7. Господи! Будет ли просвет в жизни? А мы в муках голода хлеба молим. 10 мая 1945 года приехал агент по сбору податей и налогов. Всех собрал на деревню, говорит: я привез вам радостную весть. Германию разгромили, Победа, война закончилась. Все молчали, верить — не верить. Все разом заплакали и стали расходиться по домам, выплакаться дома. Агент, его звали Николай Фролович, закричал: куда вы, люди? Давайте ваш должок выплачивайте. Вернулась к нему Анна Петровна, у ней четверо детей, мал-мала меньше: «Знаешь что, Микола Фролович? Уходи-ка ты отсюда, пока мы тебя не прибили. Наши мужики головы сложили, завоевали победу, а ты, щеголь, тут с нас шкуру снимаешь, щеголяешь в хромовых сапожках». Тут и дед Степан пришел: «Уходи, Фроленок, пока жив, или я тебя пристрелю. Хватит, ты нашей кровушки попил». И он сбежал. Лида прибежала из Лукина, кричит: «Мамка! Война кончилась!» Веня пришел из школы, отменили занятия, такой радостный, огляделся в избе, говорит: «Мамка, а где пироги, которые ты обещала? Ты говорила, как война закончится, ты напечешь много пирогов». — «Венюшка, подожди ещё немножко, теперь всё в огороде посадили, посеяли и будем сыты». — «Так что, я должен до осени ждать пироги?» Залез на печь, заплакал. Мамка его уговаривает: «Не плачь ангел мой, война закончилась. Тятька ваш вернется живым, похоронка, может, ложная, так бывает, ошибаются». — «Мамка, ты все обманываешь нас всех». Тут и мамка в слезы.
Наше детство военных лет. Из детских воспоминаний.
Смутно помню я 39-й, чуть лучше сороковой, хорошо сорок первый — проклятый, год для нас роковой. Деревня наша была в стороне от военного грома, но и жить, как в кошмарном сне, хоть и в стенах отцовского дома. Деревня наша как хутор, тревожные слухи идут, будто все изменится круто, будто нас всех расстреляют, коли немцы Москву возьмут. Деревню, как есть, сожгут. Будто они по собачьему лают, добавляя при этом «гут». Ох, ружье бы отцовское мне да патронов большой запас, тогда бы не только во сне, наяву бы деревню спас. Всё для фронта, всё для победы — лозунг звучал отовсюду. Здесь участвуют дети и деды, я тоже участвовать буду. Свой непосильный вклад мы все безропотно вносили. Я был откровенно рад, когда с Динкой гектар косили. Верней-то косила она, моя же была забота, что б дудок1 варить сполна, ведь жрать-то все время охота. С шиком ходит коса на весь размах косовища, Динка, какая в тебе краса, и какая в тебе силища. Даже взрослый мужик бы не смог одолеть такую нагрузку. За день накосить целый стог, и только дудки тебе на закуску. Урожай увозили совсем, не оставляя колхозникам нисколько. Было твердо объявлено всем: всё для фронта — и только! Сепаратор тонко жужжит, обраты мы ждем у порога, и тонкая струйка дрожит сливок для маслозавода.
Это написал мой брат Веня, 1982 год.
Июль 1945 года. С нашего района набирали девушек-комсомольцев на освоение Дальнего Востока, в Хабаровский край. Конечно, желающих было много, но с нашего колхоза отдали только двоих: нашу Лиду и ещё из Лукерино Лизу, дочь председателя колхоза. За нашу Лиду похлопотал Александр Парменович. Лида пришла из Лукерино вся расстроенная. Сразу же мне: «Динка, где Венька?» — «Ушел на Пеженгу, сказал, словлю рыбинку». — «Сбегай за ним». -«Зачем он тебе?» — «Хочешь знать, я от вас уезжаю совсем, на Дальний Восток». «Лидька, ты с ума спятила! Уедешь от нас. Скажи, где этот дальний Восток? И что ты там будешь делать?» -«Динка, не задавай вопросов, ты же ни черта не понимаешь. У тебя береста есть еще. Хватит на две пары лаптей. Давай, доставай из подполья и заплетай, оба с Венькой плетите. За сутки сплетем». — «Лидька, а ты мне можешь одно платье оставить, хотя бы то, которое с дырой. Лидька, послушай, а зачем тебе лапти? Я слыхала, что в городах-то все ходят в сапогах. Конечно, я тебе сплету, если надо. Я их подколочу шпильками, они уже высохли на печи». Мне стало так жалко Лиду, так бы и заплакала, но держусь, плакать стыдилась. Я представляю, как будем жить без нее. А мамка с кем будет шептаться, наверное, с Венькой. У Лиды слабое здоровье, она не могла переносить, когда в доме дым от лучины, уходила в коридор. Или молотили на гумне и веяли зерно на веялке, много пыли, она все завязывала нос и рот платком. Конечно, смеялись над ней. То голова болела, иногда дома лежала, бригадир давал её один день отлежаться. Итак, мы снарядили Лиду в дальний путь. Лиде дала ботинки Мария Яковлевна из Лукино, она любила Лиду, жалела. Когда Лида была кладовщиком, Мария Яковлевна помогала ей, наставляла.
Лапти готовы, и кое-какие вещички. Ночная рубаха из холста, новая, два платья ношенные-переношенные. Их подарила её крестная, и ещё у мамки был платок, атласницей назывался. И шаль белая большая, с розовой каймой. Её мамке подарили в день их свадьбы в 1923 году, эту атласницу Лида взяла. А шаль мамка носила, когда ходила в волость, мне не давала носить: мало ли, я могу и порвать, дура. Лидке все сложили в котомку, чашку маленькую глиняную, мы с неё все вчетвером хлебали обрату. Уложили ложку деревянную, о железных ложках не
_____________________________________________________________________________
- 1. Дудки — полевой хвощ и щавель.
слыхали, что такие есть, чайную ложку положили. К котомке привязаны две пары лаптей. Но я дура, подшутила: «Лидька, к этой котомке ещё не хватает топора». Но тут обе с мамкой закричали: что ты, дуреха, каркаешь, уйди из избы, чтобы духу твоего не было. Ну что, опять побежала в свое убежище плакать. Не обижаюсь — заработала. Где бы мне промолчать — так нет. А Венька с утра убежал, и не знаю, на елке сидит или в лес убежал, землянику ест. А мы с мамкой с проводами Лиды два дня не пошли косить. Я из кустов наблюдала, как Лида с мамкой пошли в Рослятино. Комсомолок повезут на машине до Вологды. Зашли к дедушке Пармену. Бабушка дала Лиде пирог, испечен из чистой муки. А у нас вечно пожрать нечего. Испекла мамка лепешки из ржаной крупы. В них не положено ни картошки, ни клевера. Лепешки хоть серые, но вкусные. Только по праздникам такие лепешки ели. У нашей матери такой лозунг был: мри, душа, неделю, а царствуй день. И ещё: как живется, так и живи, а завтра хоть пропади. Лиде все лепешки сложены в дорогу, ела ли она их? Когда делали посадку на машину, сказали: девочка, зачем тебе лапти? Так мамка принесла лапти домой, а Лида так и не простилась со мной и Венькой, ну да ладно, дай ей Бог счастья.
Мы выросли в избушке, маленькой деревушке. Вокруг лес дремучий, и небо нам казалось с овчину. Наша родная матушка — печка-согревушка. Засопела березняком и запрыгали в избушке огоньки под вечерком. Нам очень скучно без Лиды. Я не рада и платью, которое она мне дала. После Лиды мамка как взбесилась. Всё ей не ладно, всё не так и всё не по её. Лиденька уехала, а тебя, лешачиху, никуда-то не возьмут. С 3 октября Дине повестку принесли на лесозаготовку в Вереговку. Мамка моя попросила председателя: отправь мою Динку, пусть-ка поработает, хоть себя прокормит. Все ровесники мои остались дома. У них матери есть, защитят своих детей. А моя мать — как бы избавиться от меня. А мне еще 14 лет. Она рада засунуть меня в пекло, ну, и засунула. Нас из колхоза — 24 человека, одна я малолетка. И вот котомка готова, в ней ведро картошки, топор и всыпано крупы 2 кг, ложка, котелок, кружка. Соли нет. Все котомки уложены на 1 воз. Лаптей 3 пары, одни на ногах, две пары — в котомках, и одни худые валенки. Это когда приду с леса — одеть теплые. И ещё клубок — береста для починки лаптей. Они быстро в лесу по кочкам рвутся. За три дня дошли до Вереговки. Стоит барак, разделен пополам. Народу много со всех колхозов. В одну половину — 40 человек, и во вторую — 50 человек. В каждой половине — одна печка. И все нам сказали — делайте нары сами, доски привезли, неделю все спали на полу. Девчата постарше уже бывали здесь, привезли матрасы, набили сеном, по реке много стогов сена. Итак, наша жизнь лесная потянулась до 4 апреля.
У нас есть бригадир Мишка Немкин, всех распределили по звеньям. Меня взяли Катя и Маша. Конечно, они сомневались во мне: как бы обузой ни была для них. Они валили лес, сучья срубали. Моя же была забота оттаскивать сучья от полосы и сжигать их. Я быстро освоила задание, хорошо разжигала костры, пока снегу нет. Я уставала. Перетаскиваю сучья, помогаю окатывать бревна-пиловочник. Это пятиметровые строевые бревна. Пошли дожди. Приходим в барак мокрые, сушить негде, печка одна. Которые ребята покруче, занимали печку. А еще забивали в стену штыри деревянные и сушили онучи, лапти, одежду и такое испарение, как туман. Утром в 6 часов все на ногах. И всем к печке — хотя бы вскипятить котелок воды. Запасов домашних хватило только на месяц. Теперь нам по карточкам давали 300 г соли, 3 коробки спичек, по куску мыла. Стали давать хлеба по 400 г в день, но что этот кусочек хлеба! За раз съесть молодым здоровым, а работа каторжная. Только и слышишь: давайте, ребята, поднажмем, страну надо поднимать, нужен лес! Да мы даем норму, но надо нас кормить, тогда и спрашивайте с нас. Которые мужики на конях лес возят на реку, коням дают овес. Решили, давайте сами есть овес, кони и клеверу поедят. Итак, как идем на делянку, набираем овса, садимся отдыхать, набиваем рот овсом колючим, отсасываем, выплевываем и опять порцию закладываем в рот. Уже лучше, голод заманили. Уже ноябрь проходит – холод наступает. Приключилась беда в бараке. Вши развелись, столько их, на стенах ползают. И в щелях, и на нас всех на теле места живого нет. Всё тело искусано вшами. Приезжаем в делянку, снимаем нижние холщовые рубахи, выколачиваем о пенек, от вшей даже снег серым становится. Что делать? Плачем все от безысходности.
Стоим голые по пояс, натираем снегом друг другу спину. Всё тело горит огнем. Такой зуд, все в крови. Вши в нарах, в валенках. А на нас мастер только и кричит, давайте больше кубометров! Видит, в каких условиях живем полуголодные. Мы все трое кипятили воду, её солили и крошили хлеба. Вот это был наш ужин, и завтрак, а обеда не было. Только две горсти овса. Воруем, чтоб никто не видел. А воду пьем, кладем на пилу кусок снега, на костре подогреваем и снег сосем. Никто не болеет, никто еще не приходил из начальства. Просили мастера, пусть посмотрят или мы откажемся от работы, будем ждать, пока нам не сделают столовую, пока нам не дадут за два месяца зарплату. И пусть сделают нам отдельную каморку для заточки топоров и пил, а то где спим, здесь и топоры точим до полночи — сколько пыли, скрипу, не заснешь! И нужен нам доктор, но уж если не найдется доктора, так привезите нам старуху из какой-нибудь деревни, которая может попарить нас в бане с наговорами, а то вот Венька занедужил, сильно кашляет, и голоса нет, жар в нем стоит, прикладываем ему на лоб тряпицу со снегом. Приехали из дома, привезли клевер коням. И каждому прислали матери, кому что: картошку, лук, пироги. Только мне ничего нет. Я спросила Леню, почему мамка мне ничего не прислала. Ты одна из деревни, матери твоей не сообщили. Ну что, переживем.
Мы работаем в лесу. Кое-чем питаемся. Когда песен попоем, когда поматюгаемся.
Наконец-то явилось начальство. Было собрание, всего наобещали. Деньги копейки выдали по себестоимости древесины. Это за один кубический метр — 86 коп., мне дали 55 рублей. Я считаюсь на подсобке. Кате и Маше по 150 рублей. Все рады. Через неделю стали привозить нам вечером на лошади кашу, овсянку, по 17 копеек порцию. Брали по 3-4 порции, ели от пуза. Но и привезли дусту от вшей, но не помогло. Вши также нас ели, не ели, а грызли. Приехал и доктор, всех осматривал. Только послушает своей трубочкой и дает какую-то таблетку проглотить. Меня осмотрел, спрашивает: сколько тебе лет? Скоро будет 15, пятого декабря. Она так удивилась: как это так? Кто тебя направил в лес? И почему тебя мастер принял на работу? Назавтра меня вызывают в контору, начальник леспромхоза Оборин Анисифор Анисифорович. Спросил: как тебя зовут? Динка Баженова. Мне скоро будет 15 лет. Так вот, Динка Баженова, я тебя отстраняю от работы. Порастешь ещё года 3, тогда и приму. А теперь иди домой. Я тут в слезы: не пойду, я не знаю дороги домой! Не ближний путь — 110 км. Пришла в барак — плачу. Девчонки мои, Катя и Маша: не плачь, Динка, ты не хуже других работаешь, мы тебя не отдадим, замолвим словечко мастеру. В самом деле, ползимы отработала, а теперь уходи, раньше что думали? Мастер сказал: всё, всё, иди домой. Мне взбучку дали из-за тебя, Оборин написал письмо вашему председателю, ты унесешь. Но он меня обратно отправит. Катя и Маша уговаривают меня: «Динка, иди не бойся. Дорогу найдешь. В деревнях спрашивай — как дойти до Корманги, а там уже рядом дом. Помнишь, где ночевали, сюда шли? До дома от Корманги всего 50 км. Только этот волок ни в одной деревни на пути. Дорога всё по реке Унжа, никуда не сворачивай. Придешь в деревню Пустожь и там переночуешь, потом уже много деревень попадется. Только вот этот путь, как пройдешь, самый длинный. Динка, не плачь, ты сильная — дойдешь». С вечера собрала котомку, валенки-развалюхи, топор и пара лаптей растрепанных. Путь длинный, пригодятся. Девчонки дали свой поек хлеба. Очень благодарна им.
Утром ещё темно, я уже в дороге. Погода морозная, дорога торная. Котомка за плечами, посох в руках, на всякий случай, если встречусь с волками, ну уж очень боюсь в чужом лесу. Наконец-то дошла до пустоши. Встала у забора, расплакалась от радости и усталости. В домах огоньки светят, тоже с лучиной сидят. Теперь в какую же избу постучать? Пустят ли меня вшивую? Постучала, мне открыли, я прошу: пустите меня переночевать, я иду с Вереговки домой в Рослятино. У нас нет места, иди в район, там есть Дом колхозника и захлопнули дверь. Что делать мне? Постучу-ка я в маленький дом, пустили. О! Счастье! Рассказала, что я и кто я. Я иду домой. Давай раздевайся, грейся. Я только у порога посижу до утра. Отогреюсь и пойду. Мужчина говорит: собери-ка девчонке поесть. Что вы, у меня есть хлеб, два пайка, я в дороге грызла замерзший. Дали мне волнушек с картошкой и чаю горячего. Я разомлела, так хочу спать. Мне говорят: лезь на печь, прогрейся. Я говорю: что вы! У меня вши есть. Я посплю на своей фуфайке. Хозяева засмеялись: у нас своих вшей хватает. Думаем, не подерутся наши с твоими. Я проспала до 12 часов, меня не будили: Пусть девчонка отдыхает, надо же отмахать такой путь.
Плачет девочка и стынет на ветру, и ручонкой иззябшей вытирает капли со щеки слезу. Со слезами она просит хлеба черного кусок. От обиды и волненья замирает голосок. Я нагнулась, как старушка, оперлася на клюку, а над самою макушкой долбит дятел на суку. Сторона моя, сторонка, горевая полоса.
Семь суток шла. Лапти все излохматились. От валенок остались одни голенища. Хлебушек давно съела. В каждой деревне милостыню просила. Подавали картошку, луковицу, турнепс, брюкву, хлеба нет ни у кого, везде голод. Спасибо, что ночевать пускали. Добрела до дома, всё во мне горело, во всем теле. Мамка не обрадовалась. Допросила: почему пришла домой? Я говорю: в лес принимают с 18 лет. Она: «Так почему, кто тебя за язык тянул, что тебе 15 годов?» — «Мамка, меня спросили, и я сказала. Я не знала, что можно было соврать». Мамка: «Ой, сколько мне с тобой горя. А что теперь тебе скажет председатель?» Я: «Мамка, я принесла председателю письмо. От самого директора Оборина, на, почитай — чего он пишет. Мамка, я очень устала, очень есть хочу. Картошка есть ещё?» Мамка: «Еще картошка есть немного, вчера Веньке унесла ведро. Парнишка весь изголодал». Я: «Мамка, а ты разве деньги ему не даешь? Пенсию за отца». Она: «Ну, Динуха, стерва, всё-то она знает, везде сует нос». Накричала на меня. Мне ничего не надо. Надо мне только поспать. Я залезла на печь и уснула. Мамка будит: иди жри, если будешь. Нет, мамка, я уже не хочу. Дай мне поспать. Утром мамка доложила бригадиру и письмо унесла. А бригадир обрадовался. Говорит: и хорошо, а то некого послать везти коням клевер на Вереговку. Динка теперь знает дорогу. Василий Львович тоже поедет с ней. Сообщим родителям, пусть пошлют продуктов. Из колхоза выделили 1 кг масла и 5 кг гороховой муки.
Деньги, заработанные мной, отдала мамке — 40 рублей, а 15 руб. спрятала на чердаке. Венька придет из школы, дам ему пятерку, что б только мамке не сказал. Пусть Венька купит витаминов себе и мне. А Веня пришел поздно вечером. Я обрадовалась. Увидев меня, он рассказывал, как в школе и как ему живется на квартире. А я о своем путешествии с Вереговки. На второй день Венька задает мамке вопрос: «Мамка, а почему у нас нет мамы? У всех родителей есть мамы и тяти». Ну, тут мамка забегала по избе. «Что ты, сыночек, ты, наверное, заболел. Я твоя мама». — «Нет, нет, ты — мамка!»- « Ой, да что это деется. Откуда ты это придумал, сам или подговаривает эта лешачиха, явилась на мою шею?» — «Мамка, так людей не называют, даже в сказках. За одно вы, можете называть теткой». Пустилась в слезы.
Я опять поехала на Вереговку, повезла клевер. Мамка так со мной и не заговорила. В дорогу ничего не дала. Да я и не просила. У меня есть 10 рублей. По дороге есть завод по переработке сосновой живицы. Там можно купить, хлеба дают по 500 г. Мне хватит. А теперь я на лошади, есть овес, не умру с голода. Мы с дедом ехали 1 день и ночь, коней накормим и опять едем. Приехали на место — все выбежали встречать. Мы им раздали посылки от родителей и от колхоза 1 кг масла и 5 кг муки гороховой. Заругались: что это на такую бригаду 1 кг масла? Это пальцем лизнуть, а муки только понюхать. Смеются над нами. Там деньги получают, что выполняем план, а мы тут голодуем. Получаем только на порцию овсяной каши. Как нам тут не сдохнуть от голода и вшей? Ещё 2 месяца как продержаться? «Динка, ты говорила председателю, как мы тут?» Да я всё говорила, он только руками развел. Сказал: не графья, выдержат.
Еще прожили год. Меня приняли в комсомол. Только меня из нашей деревни. Второй год как война закончилась, но жизнь наша не улучшилась, урожаи низкие, коней мало, да и те старье одно, еле ходят. Поля не удобряются, навоз не вывозится. Только надежда на картошку. Вырастят — значит, будем сыты. И ещё много сажали брюквы, и капусту сажали, но мамка не знала, как её засолить. Однажды уложила в бочонок целыми кочанами, посолила, прикрыла крышкой. Мы очень ждали, когда она будет готова. Все люди едят уже. Когда Лида посмотрела в бочонок, там плесень и гниль. «Мамка, почему ты капусту сгноила, она без рассола?» Ответ: «Хорошая капуста сама должна дать сок». А зимой только меня посылает, то к одним, то к другим. «Динка, сходи к Федоре, попроси рассолу капустного». Вот и хожу, выпрашиваю, ради Христа. Мать наша, как повар, стряпуха, ничего не умела. У родителей пока росла — не знала забот. Её только научили прясть, вышивать и немного шить. Она умная, очень хитрая, закончила 2 класса, хорошо читала, писала, хорошо знала математику. К ней обращались, кому-то подсказать, подсчитать, она в уме всё считает. Женщины спрашивают: Асафьевна, подсчитай, когда я рожу? Мать спросит: когда в брюхе зашевелилось. Быстро высчитает. Или спросит, когда мой Толик родился, ты помнишь, сколько ему лет? Когда за Пеженгой был пожар, тогда и родился. Или спросят: когда бабка Арина умерла, сколько годов прошло?
Но капусту скажет: изрежьте овцам и корове, а ведь могла бы хоть напарить, и сами бы съели. От того мы и голодали. Она не задумывалась о завтрашнем дне. Мри, душа, неделю, а царствуй день! Из-за неё отец ушел от нас. Нас, малых, обездолила, сиротами росли по её войне.
Венька, как закончил школу, так сразу пошел работать, вместе с нами огороды загораживать для скота. Рубили березняк, делали жерди, колья. Венька только подносил. Так устал, веревки на лаптях развязались, онучи свалились. Мне так его жалко стало. Я ему завязала веревки и отправила домой. Мы пока рубили жерди, насобирали морщевиков или дождевиков, как их еще называют. Они самые ранние грибы. «Венька, иди жарь, луку туда зеленого нарежь, я приду на обед». Мамка ушла в Рослятино по делам, не знаем по каким. Вечером пришла, принесла посылку от Лиды. Вот была радость. В посылке было платье, сапожки для мамки и женское трико оранжевого цвета, наматрасник и 2 м ситцу, и 6 коробок пудры. С чего бы это? Ещё такую штуку, не знали, куда её приспособить. Толстый, крученый шелк, очень красивый, застроченный, с подкладкой, а посредине 4 резинки с железками, 5 пуговиц на конце. Что же это такое? Никто не знал. Вся деревня собралась посмотреть, позавидовать. Кто-то подсказал, это на голове носят. Кто сказал, на шее. А нет, бабы, это на титьках носят. Ой, не ври, Марья, этакую красоту, да под исподку прячут, нет. Наматрасник красивый, цветами, мамка оторвала от него, вот тебе, Динуха, платок из ситца. Веньке рубаху, завтра схожу в Лукино, Марька сошьет. Мне досталась неопознанная штука, пудра и платок. Из матрасника сшили мамке кофту и юбку широкую. И пошла мать на Троицу в Лукерино на 2 дня. Оделась в сапожки, в костюмчике, худо ли? Меня не отпустила, ты здесь управляйся со скотом. Корову подоишь свою и Петровне, они все уходят, Венька тоже ушел. Говорят, у дедушки Пармена приехал Васька сын, с Мончегорска, учится там в ФЗО.
Мамка с Веней пришли с праздника, с Троицы. Людей посмотрели и себя показали. Мамка довольная говорит: меня увидели и удивились. Сказали: ну, Асафьевна, ты наряжена, как кукла. Да, это у меня доченька высылает. Смотрю, Венька всё улыбается, с чего бы это? Говорю: ты чего не похвастаешь? Динка, тебе чего я покажу, ахнешь! И показывает мне ботинки новые кирзовые 40-й размер. Где ты взял? Это мне подарил Васька, и через 20 дней он увезет меня в Мончегорск. Да ты что! А как же я? Мамка же меня загрызет. Лида уехала, да и ты уедешь. За меня и некому заступиться. Динка, ты защищайся. Она когда закричит на тебя, давай ответ. И не убегай в свою берлогу. Пока мамки нет в избе, Венька, ты дашь мне ботинок поносить в воскресенье? У деда Степана будет пир. Нина пойдет, и меня приглашает. Ладно, только на один вечер. И даже дам носки, и резинки. Носки чтоб не свалились, покажи, дай примерю. Потом, мамка идет, прячь скорей, а то опять мне взбучка. Венька, на днях уже косить будем. Кто мне будет дудки носить и чай кипятить? Динка, ты по гектару не коси, как люди косят по 30 соток, так и ты. Венька, я теперь комсомолка, я должна идти вперед всех.
А теперь я пошла на пир. Надела платье тонкое, просвечивает, просвечивает, а трусов нет. А это трико мамка не дала. Ещё чего! На жопу надевать такую вещь, обойдешься. Ладно, юбку и кофту мне помогли Нина и Рая приспособить, неопознанную вещь подмышкой застегнули, а резинку на плечах завязали ниткой. Теперь как ещё носки надеть? Прицепить резинками, это раньше так носили мужики. Они короткие ещё, как ботинки, как бы они мне не малы были. Померила, о! в длину и в ширь велики. Набила в носки кудели, теперь хорошо. Можно плясать. Девчата мне завидуют. А у Нины есть чего одеть, но Райка в лаптях. За столом все уже под хмельком, поют песни, а мы все сидим у порога.
Праздник у Степана и Настасьи. Приехал сын с семьей. Василий и жена его Яна. Василий закончил 3 класса, уехал, в Ленинграде поучился и много лет работал секретарем обкома партии и на фронте не был. В Ленинграде жировал. Не голодал, не умирал с голода. Хоть и большой чин был, а после войны его посадили. Но сегодня ещё у него праздник. Алексей с гармошкой пришел, ну, и тут все кто во что горазд. Мы с Ниной пошли плясать, обе в ботинках, но у меня очень тяжелые, но хорошо отстукивали. Эта гостья питерская увидела меня в таком одеянии, весь вечер смеялась, а я-то думала, что я ей понравилась. Райка вышла плясать и спела «Ох лапти мои, носки выплетены, не хотела я плясать, сами выскочили». Яна подошла к Райке, покажи, как ты ходишь в таких корзиночках? Да мы всю жизнь в лаптях ходим, а в чем же ещё ходить? Ботинок у нас не бывало. Дина тоже в лаптях ходит, это она сегодня вырядилась, форсит. Ей брат одолжил на вечер. Яна подошла ко мне: девушка, что это у тебя на груди привязано? А я не знаю. Это мне Лидька прислала. А я и не знаю что. Яна: я тебе подскажу. Это пояс, его носят на теле. Резинки прицепляют к чулкам. У тебя есть чулки? Нету у меня, не бывало чулок. Как тебя зовут? Динка. Хорошее имя. Ты — не Динка, а Диана, так и называй себя. Какое у тебя чистое лицо и красивое. Яна показала, как зацеплять чулки. Я говорю ей, Яна Берковна, такой красивый пояс и носить на брюхе? Его же никто не увидит! Яна обратилась к мужу: надо сюда отправить журналиста и писателя, тут с каждого колхозника можно написать книгу. Яна говорит: как тут можно жить, кругом дремучий лес? Наверное, и волки, и медведи заходят к нам. Вы их не боитесь? Медведей нет зимой. Часто заходят в деревню волки только ночью. А медведей не боимся, мы, когда жнем овес, так медведи жрут овес с другого конца поля, мы о ведро серпом бренчим, медведи убегают.
В северном лесу, где мороз и вьюга, где с ветрами спорит ураган, в маленькой избушке родился Венюшка, славный, кареглазый мальчуган. Много он проказил, много крыш облазил. Много выбил в окнах он стекла, и не зная даже, здесь вам каждый скажет — это Венькины дела.
Венька наш был лунатиком, мы теперь готовимся: как и с чем Веньку проводить. Хлеба нет. Мамка пошла к председателю, просить муки или хотя бы зерна дал. Мамка рассказала, что Веньку увезет Парменов сын Васька. Но тут председатель так на неё гаркнул: вы что самовольничаете? Разве я разрешил ему уехать? А кто будет работать? Так все могут уехать. «Ну, ты что, Анатолий. Он же ещё ребенок, ему надо учиться. А здесь мы голодуем. В городе его там будут кормить настоящим хлебом. Его там примут в ФЗО». Конечно, отец погиб, заступиться некому за детей. Мамка пошла в Лукерино. Там бухгалтер Александр Парменович. Он знал уже, что Васька берет Веньку и сразу выписал 5 кг муки. И там же мамка получила. Мы очень обрадовались. Веньку справили с пирогами. Дала мамка ему денег на дорогу и в штаны зашила несколько рублей и не велела показывать Ваське, а то он уже курил и попивал. До Мончегорска доехали. От Вологды до Петрозаводска ехали на товарняке. Дали немного денег машинисту. Дальше купили билеты на поезд до Кандалакши. Но доехали до Оленьи, проспали в Кандалакше. Как бы проехали свою станцию и оправдались. С Оленьи до Мончегорска ехали зайцами в поезде. Добрались до места. Веньку не брали, уже набрано ребятишек, и мест в общежитии нет. Спасибо Ваське, он пробил, нашлось место. Веньке хотелось учиться на токаря, но тоже группа набрана. И стал учиться наш Венюшка на столяра-плотника. Написал нам, что выдали спецовку и выходной костюм. Кормят очень хорошо. Дают 2 блюда: суп с мясом, каша с маслом.
***
Вспомним родное училище.
Воспоминания Вениамина Васильевича Баженова принесла в редакцию его сестра — Дина Васильевна Кустова. Самого автора, к сожалению, уже нет в живых.
В воспоминаньях речь идет о Мончегорском училище №1. Оно находилось на Малой Сопче, недалеко от комбината. Потом в этом здании размещалось женское общежитие. Вениамину Баженову, как и другим детям войны, нужно было получить образование, чтобы вместе со всей страной строить коммунизм, который тогда казался «светлым будущим». Сегодня мы публикуем эти воспоминания, чтобы открыть ещё одну страничку нашей послевоенной истории.
«Летом 1948 года в нашу деревню, вологодскую глухомань, приехал в отпуск односельчанин Василь в форме ремесленника. Он заворожил меня не только внешним видом, но и образным рассказом об учебной и бытовой жизни Мончегорского ремесленного училища. Я не мог оторваться от него. На мое твердое решение уехать с ним мать повздыхала, поохала и заключила: «Может, это и есть Господня помощь?». А иначе как выбраться из цепких когтей колхозной жизни? Бесправие и крайняя нищета лишили всякой надежды на какую-либо перспективу. В военное время мы надеялись, что Великая Победа все изменит к лучшему. Но и это не оправдалось. Для нас победа была со слезами на глазах от непоправимого горя: отец погиб в Курской битве. Преодолевая страх, я отправлялся в неизбежность с убеждением, что хуже, чем в деревне, быть не может. Неделю мы путешествовали с приключениями. Путь был неблизкий. Сутки на грузовике по бездорожью от района Рослятино до города Тотьмы. Сутки на пароходе до Вологды. И, наконец, трое суток «зайцами» в хозяйственном отсеке вагона поезда. Вот мы и в Мончегорске.
Серое трехэтажное здание училища мне тогда показалось огромным, как бы продолжением горы Нюд. Группы по всем специальностям были уже давно набраны. И меня особо не ждали. Я понимал, что с моим пятиклассным багажом, оборванным и исхудалым видом не представляю собой ценности для училища. В глубине души появилась радость — скоро вернусь домой. Уж очень я соскучился по родному дому и насмотрелся всего в чужом краю. Но мой опекун не мог смириться с таким финалом. «Что о тебе подумают в деревне?» И он, Василь, атаковал все инстанции, ходатайствовал, чтобы меня приняли в училище. Он втащил меня в канцелярию, поставил перед начальством и стал быстро объяснять им, что у меня отец пал на войне смертью храбрых, что домой одному не добраться, ведь целую неделю ехать, да и денег нет. Не знаю как, но его слова и мой жалкий вид подействовали на начальство. И меня определили в группу столяров-краснодеревщиков. Я был счастлив, что меня не прогнали с порога, а с сочувствием отнеслись к моей судьбе. Мне даже не верилось, что сразу из кабинета начальства я уже иду со всеми вместе в столовую. Хотя завтрак был скромный, я был доволен как никогда, ведь это был первый оплаченный государством завтрак. Государство приняло на себя заботу обо мне. Это вселяло уверенность в завтрашнем дне.
Прошло уже более 50 лет, а память бережно хранит яркий калейдоскоп событий тех лет. Общим фоном было доброжелательное, заботливое отношение со стороны персонала училища. Это располагало к доверию и уважению. Стрижка новичков наголо воспринималась без восторга, но и не обидно, раз уж такой порядок. Помывка в бане, переодевание во все
новенькое вызывали общее ликование. Не беда, что я в одежде и обуви утопал (не дорос года на два). Но в зеркале сам себя не узнал — довольная улыбка не сходила с лица. Тоска по дому куда-то улетучилась. Вовлеченный в бурный круговорот событий, я быстро привык к новым условиям: ранний подъем в семь часов был для меня вовсе не ранним, потом физзарядка, передвижение в строе, занятия — теория и практика, вечерняя проверка. Все мне было по душе.
Страна со стоном поднималась из руин войны. Следы надрывного военного производства были видны и в Мончегорске: с одной стороны — беспрерывно дышащий жаром «Североникель», с другой — бараки, не затухающие круглосуточно, как и сам завод, с третьей -пленные немцы, неторопливо и сосредоточенно трудившиеся на стройках. Ходили слухи, что они не хотят возвращаться домой, потому что там их ждет та же участь, что и наших солдат из немецкого плена — искупление позора в трудовых лагерях и тюрьмах. А в 1949 году немцев в Мончегорске уже не встречалось.
Итак, ремесленное училище становилось нашим домом, семьей, школой и надеждой. Мы, недоучки, истощенные войной и послевоенной голодухой, нашли здесь приют, тепло, заботу и главное — перспективу. Мы испытывали тягу к знаниям, острую потребность получить специальность, быть полезным обществу.
Ремесленное училище было многопрофильным. Группу металлургов составляли наиболее крепкие и здоровые ребята. Химиками-лаборантами были девушки. Они занимали отдельное крыло верхнего этажа — для мальчиков запретная зона. Самыми грамотными были токари, автослесари, слесари-инструментальщики. Заметно выделялись кузнецы — всегда ржавые и закопченные. Элитой чувствовали себя электрики. Замыкающими строй были мы — столяры-краснодеревщики. Нас именовали не иначе как «гроботёсами», что было неприятно. Наш мастер, воспитатель и опекун Петр Васильевич Лавров, как мог, поднимал в наших глазах авторитет специальности: «Разве можно сравнить, — говорит, — вечно промасленных, черномазых металлообработчиков с нами? Они глохнут от грохота, слепнут от металлических стружек, их роба не отстирывается. А у нас… запах стружки смолистой сосны не только приятный, но и лечебный. Нам не нужна перина, мы спим на матрасе, набитом такой стружкой и потому не болеем». Такие доводы и вправду внушали чувство превосходства нашей профессии. И Петр Васильевич учил делать всё так, чтобы комар носу не подточил.
Никогда не забыть, с каким усердием выполнялась первая самостоятельная работа. Мастер всесторонне осматривал творение моих рук, тщательно проверял размеры по моему чертежу, высказывал замечания, а в итоге объявил, что с заданием я справился успешно. Каждый из нас спешил сообщить об успехе в родительский дом. «Мама! Ты не поверишь, но я сам, собственными руками, сделал табуретку, гаечный ключ…» и так далее. Такое письмо сразу становилось достоянием всей деревни.
Каждый день в училище нам приносил что-то новое, обогащал знаниями, умениями, навыками. Кроме училищных стен, к нашим услугам был только что построенный Клуб горняков в поселке Тростники, где мы дважды в неделю смотрели кино с обязательным обсуждением сюжета фильма по группам. Большинство из нас участвовали в художественной самодеятельности. Старожилы Мончегорска наверняка помнят ритмичный шуточный танец «маленьких поварят», где мы вшестером лихо отплясывали. Даже ездили в Мурманск на фестиваль, пели в хоре: «…До свиданья, города и хаты, нас дорога дальняя зовет. Молодые смелые ребята, на заре уходим мы в поход».
В 1949 году у нас появился свой духовой оркестр. Ребята быстро освоили инструменты и уже на первомайской демонстрации шествовали под собственную музыку по булыжной центральной улице Жданова. По выходным и праздничным дням у нас были танцы. Девчата приезжали даже с Мончи. Учились вальсировать сначала в комнатах, преодолевая неуклюжесть, а, осмелев, выходили в танцевальный зал, благо, наши лаборантки терпеливо вводили нас в такт музыки. И уже по прошествии стольких лет, когда слышишь мелодии «Дунайской волны», «На сопках Манчжурии» и другие, вспоминаешь то далекое, неповторимое время.
За два года мы выросли, возмужали, преобразились. Мы не только умели что-то делать, но и искренне хотели работать, стремились скорее внедриться в рабочие коллективы. Вместе со Свидетельством об окончании училища по специальности «столяра-краснодеревщика» третьего разряда мне вручили и похвальную грамоту «За отличное овладение профессией и отличное поведение» с барельефным изображением Ленина-Сталина, подписанную директором училища В. Киселевым, от 29 июля 1950 года.
За тридцать лет службы на корабле ВМФ (в том числе и в гарнизоне Видяево — 8 лет), я немало получал правительственных наград, но ту грамоту храню и дорожу ей особо. Это первая высокая оценка моих усилий, благословение на созидательный и ратный труд. Но поработать по специальности пришлось лишь два года: в мастерских по ремонту траулеров Мурманского рыбного порта.
5 октября 1952 года меня призвали на военную службу. Матросская служба не тяготила, так как к порядку и дисциплине я был приучен ещё в ремесленном училище. За четыре года срочной службы (да, тогда в Морфлоте служили четыре года!) мне удалось получить среднее образование и поступить в военно-морское училище. С полной уверенностью могу сказать, что мою судьбу определило именно ремесленное училище. Общественно-трудовая деятельность стала образом жизни, чертой характера. Убежден, что все, прошедшие в детстве трудовую школу, не смогут терпеть безделья и праздности.
От редакции. Вениамин Баженов вспоминает своих однокашников: Анатолия Кустова, Александра Смышляева, Сергея Копасова, Юрия Ежова, Евгения Веселова и других. Быть может, кто-то узнает в его рассказе свое училище и откликнется. Воспоминания о ремесленном училище №1 открывают нам ещё одну неизведанную, но, несомненно, важную страницу истории Мончегорска.
Где силы взять, чтоб дальше жить? Сюда иду зеленою тропою. Усталость ног росою освежить, услышать шум листвы на головою. Я приду за рассветной росою, когда небо вспыхнет зарей, чтобы смыть там за Пеженгой свои беды ключевой водой. Как мне без Веньки плохо. Вечерами хожу в свое убежище, наплачусь от души. Мамка теперь рада меня загрызть. Только и слышу от неё: вот путевые-то дети уехали, а от тебя никогда не обтрястись. А я жду, когда я уеду на лесозаготовку, там, я от тебя отдохну. Это я только в уме про себя думаю. С огорода убрали картошку, много наросло. Можно зимовать, если мать не скормит корове. Вот и завершился хлебный год.
День пригреет возле дома, пахнет позднею травой, яровой сухой соломой и картофельной ботвой. Отошли грибы и ягоды. Смотришь утром со двора — скот не вышел в поле. В поле пусто, белый утренник зернист. И свежо, морозно, вкусно заскрипел капустный лист. И хотя земля устала, всё еще добра, тепла. Лен разостланный отава у краев приподняла. Но уже темнеют речки. Тянет кверху дым костра.
Мне повестка пришла 4 октября. Не на заготовку леса, а на завод, корчевать пни сосновые, смолистые. Это недалеко от нас, 25 км. На заводе огромные печи, прямо на улице смолистые пни раскалывают и щепки закладывают в печи, и с боков печи нагревают дровами трое суток. И с этого смолья вытекает сначала идет скипидар, а после его идет остаток — деготь, смола. А другие печи набивают берестой. С неё идет паровой чистый деготь. А на бересту тоже дают план по колхозу — сколько сдать лесохимии. Мы все по весне дерем бересту. За 100 кг платил колхоз три трудодня. Конечно, за день не надрать столько. Итак, мы уже в поселке Вымполож. Условия лучше, чем в Береговке. В избе две печи, где варили еду. Сушили лапти, онучи, хомуты в другой избе. Спали тоже на нарах. Набивали тюфяки стружкой, здесь её много, бондари делали бочки. .
Сейчас молю, прошу, дай мне Боже, силу, преодолеть препятствия свои. Не терять надежды в свои силы. Поверить в жизнь, которой мне идти. В Вымположи есть магазинчик, пекарня. Хлеба давали по 800 г . Каждую субботу ездили домой на конях. В воскресенье возвращались, везли сено, овес для коней. Себе везли картошку, ведро. У меня был котелок. Мы еду варили по двое. Утром и вечером — картошка, а чего ещё кроме? Завезли крупу овсянку и дали по два кг. Замечательная еда. Это уже что-то. Но надо сэкономить мамке. Как и все, скопим хлебушка с килограмм. Родители рады. Приезжаю, мамка начинает: «Ой, как я рада, ждала тебя, давай помоги мне напилить дров. Одной мне плохо пилить. Динушка, ещё воды наноси». — «Мамка, мне ещё надо за сеном съездить. Воз нагрузить, чтобы на неделю хватило сена. Скоро подъедут с Лукино, а я не готова. И лапти уже истрепались, хотела зачинить. А что за полдня успеть?» Мамка говорит: «Я хочу зарезать корову, с ней одна маета. Сколь соломы ей рублю, да подстилку её таскаю в пестере, да воду». — «Мамка, а что хочешь, то и делай. Ты меня никогда не слушала. Даже не замечала, что я есть. Если тебе что нужно, так сразу: Динушка, мне жаль тебя, но не как себя, сходи туда, принеси то, принеси это».
Ну, а мы работаем пока снега нет, корчуем пни по пять человек девчонок. Это очень трудная работа. Заостряем бревно, делаем подкоп под пень, втыкаем под пень, и все наваливаемся животами, раскачиваем бревно. Бывало, слабый пень или бревно соскочит, мы смеемся и плачем. За зиму сколько синяков получим. Всё лето заживляем. Смолья заготовим, вывозим, потом заготовляем дрова. Очень много дров сжигают эти печи. Я работаю на лошади, хлопотно, конечно. Надо ночью вставать, кормить, а утром надо дать ей овса, напоить, сводить лошадь к реке.
Прошу, прочти мой стих, он труд. Прошу, не смейся ты над ним. Из ключа в глухом бору воду быструю беру. Всех цветов и трав весенних вялых, кровь земли калины алой, всё смешаю я в воде. Охрани меня в беде. Прошу лесное племя, стань мне братом, хоть на время. Подари секрет земной, одари водой живой.
Я помню осенние ночи, березовый шорох теней. Пусть дни тогда были короче, луна нам светила длинней. Потому что пряли и ткали при лучине. Лучину берегли на завтра. Скоро зиме конец. Теперь нас заставляют работать и в выходной, план не дотягиваем. Сено подвозят нам, а также и картошку из. дома присылают. Мне вдруг прислала мать мяса кусок, значит, корову зарезала. Я расстроилась: есть ум? Прокормить до весны корову и зарезать. А в мае отёл. У матери крыша поехала. Дали нам выходной. Приезжаю домой, посмотрела: мясо в кадушке, килограмм 10, голова и ноги. И вся корова тут. Спросила: «Мамка, а где остальное мясо?» -«Как где? Унесла Ивану Парменовичу, он ведь большой начальник. Мало ли зачем обратимся, он поможет». — «Мамка, в войну он помог, когда помощь раздавали, вещи американские всем детям, у которых погибли отцы? Дал Веньке брюки с дырами на коленах. Не только нас ограбил, весь район. Ну ладно, я унесла на Дресвяново, снохе Анне, совсем они плохо живут, да брату немножко дала. Конечно, братик твой нуждается. Шьет и порет, зарабатывает». Ну, она тут понесла меня по кочкам. «Ты не имеешь права меня критиковать, всё мое, и ты мне не указ». Так я уехала. Ведро картошки, может, нас опять не отпустят. Я всё для мамки: не доем, берегу. Дали нам по 500 г сахара и 500 г соли, и по одному пакетику 250 г комбижиру, конфет-ирисок. Всё везу мамке. Теперь вся деревня смеется: Асафьевна зиму прокормила, а весной зарезала корову. Смешней некуда. Через полтора месяца и теленок был бы.
Я преклоняюсь на колени, чтоб исповедаться за грехи. Прости меня, мой Бог, прости за юные года. Судьба моя, мой Бог, была такая. Я в ней достатка с рожденья не видала. Мой Бог, прости меня, что не верила в тебя. Мой Бог, прости моих родителей. Они были коммунистами, а я была комсомолкой, партийной, атеистом. Я росту как ненужная никому полынь среди цветов. Я из хлеба, что родит земля, я из ржаного трудового хлеба, также из ячменного зерна. Также из дурманящего хмеля. Я — частица матери земли.
Наконец-то зима кончилась. Приехали домой. Мамка показывает мне повестку. Баженова Дина направляется на сплав паромов со скипидаром, со смолой до города Манторово в Костромской области. «Мамка, кто ещё направлен, кроме меня?» Мишка Мишихин, Микола Буян да Петрухин сын Сано. А из девчат кто? Так говорят, что из колхоза только четыре человека нужно. Было собрание, спрашивали: кто желает? Много желающих. Я сказала: запишите мою Динку. Она проворная, справится. «Мамка, я воды боюсь, плавать не умею». — «Ну-ка перестань стонать, не утонешь. Говно не тонет, как говорят». — «Мамка, я не пойду, и все». — «Динуха, тебя судить будут, ведь ты комсомолка». Ну, почему меня? Другие девчата дома будут. Конечно, у них матери есть, постоят, не отпустят. Да ни одна волчица не сунет волчонка в пекло. Мамка, может, ты мне вовсе не мать? В деревне у нас есть Анюша хромая. У ней дочь не родная, Катя, мне ровесница, отец тоже погиб на войне. Так мачеха нигде не даст её в обиду, шьет из своих сарафанов Катьке юбки, кофты, и из отцовских брюк тоже перешивает на Катьку. Когда едем в лес, всегда скажет: Катенька, не надрывайся, береги себя. У тебя ещё вся жизнь впереди. Я всегда Катьке завидовала, когда пришлет Катьке пироги, умела испечь из ничего. Чтобы моя мамка была такой.
Моя грусть и радость, спасенье и мука, так я живу. Дышу и мыслю так: если сердце у меня защемило и ныло, к той березе я приходила и на колени перед ней вставала и сердце открывала, ничего не скрывала. Постою у березы, покуда не устану и на сердце полегче мне станет. Буду с вами расти и не оставлю вас, березы из рощиц окрестных. И когда-нибудь книгу составлю из созвездий, пока неизвестных. Ох, юность, юность удалая! За днями дни прошли, как тени, а я все жду рассвета.
Письма от Вени получаем, мамка дает мне читать. А от Лиды тоже приходят письма, но мамка не дает мне читать. С письмом уходит к соседке Марье Афонишне, а я только через людей узнаю, что пишет Лида. Веня обещает приехать в июне, а мне дали 5 дней на отдых. Если он будет, надо пару лаптей сплести. Мамка отправляет меня за белой глиной, надо избу побелить. Я каждый год хожу, это за Рослятино, и со всего района ходят, которые на конях приезжают, с лопатой. А я всё царапаю руками, мерзлую глину набираю в кузовок кг на 10 и несу на горбу в бездорожицу, снег тает, ручьи бегут. Как принесу, так вся деревня просит: Асафьевна, дай глины, кожух побелить. А я ворчу: «Мамка, почему ты раздаешь? Что, сами не могут сходить?» — « Да никто не знает, где эта глина». — «А почему же я знаю? Ты меня первый раз отправила в 7 лет, иди, ищи. Хорошо, добрые люди довели до горки, показали. Я больше никогда не пойду, я все руки ободрала, все ногти содрала до крови». — «О! вот бедняжка! Пойди, пожалуйся кому, устала! Я даю глины всего-то по горсти». — «Мамка, этого кузова нам бы хватило на 3 года, а я каждый год хожу». Надо готовиться мне в путь. Прежде побелить в избе. У нас штукатуренная изба, белю каждый год избу и печь. Лида и Веня любили, когда побелю в избе. За зиму так прокурится потолок от лучины. Мамка мне купила сапоги кирзовые у глухого немого Егора, он с Лукерина, поношенные, голенища заштопанные, за 50 рублей, 42 размер. Я очень рада, только одни лапти сплела.
Выполнение плана лесозаготовок. Строевой мы лес стране давали. Усталости не зная, сквозь вихри и снежные бураны. Бревенчатый мы настилали путь. И было некогда тогда нам перекурить и отдохнуть. Мы расходились на закате, а завтра вновь метель мела. Средь 8 мужчин в бригаде одна девчонка я была. И берегли меня ребята от толстых и тяжелых бревен, как могли. Работала я что есть силы, как и все, дышала горячо. Ребятам не помехой было мое девятое плечо. План выполнили и перевыполнили. Слава и почет колхозу «Сталинец»! Всё уже готово к отправке паромов, три парома. Нас распределили по 4 человека на паром. Двое управляют паромом, двое отдыхают. Сделано большое сиденье. Сегодня в поселке новость -Петруха-сатана запился. Выпил, заснул и не проснулся. Это в деревне Семеновская. Меня это заинтересовало: а что, и мне не запиться? Только сколько ж надо выпить? Может, хватит чекушки? Я ещё не пробовала водки. Что же мне делать? Как заболеть, чтоб не плыть на паромах? Если я запьюсь, мамке будет позора, но будет рада избавиться от меня. Купила бутылку пол-литра и вечером ушла в лес украдкой, чтоб никто не видел. Нашла большую, ветвистую елку, наломала с нее лопаков и села, прижалась к елке. Господи, прости меня! Открыла бутылку, понюхала и — о Боже! Дало в нос, зачихала, но надо пить, не хочу жить. Конец моим мучениям, вечная каторга! Долго пила, запивала из лужи водой со снегом. Внутри все загорело. Леса закружились, в ушах звон, а я всё ещё жива. Когда же я умру? Ох, да мне надо уснуть. Но я не хочу спать. Хочу кричать или подраться. Вот бы медведь пришел, я бы его свалила. Но сон меня свалил на рассвете. Я проснулась от птичьего пения. Господи, вся дрожу, встать не могу, ноги ватные, как, я ещё жива? Как же? Видимо, надо было купить 2 бутылки. Где же я денег возьму? Но жить захотелось. Только денег пропила. Еле дошла до речки, умылась и пошла в дом. Меня встретила уборщица Авдотья: где ты была? Тебя мастер искал. Я ночевала у Ольги Вериной. Авдотья меня напоила чаем. Я залезла на печь, заболела. Теперь останусь дома. Мастер сообщил: поедем только 28 апреля.
А весна молодая такая, и готовность к дороге далекой. Я думать боюсь, но от дум не уйти. День проходит, и кончаются труды. Обессилев, мы ложимся у воды. Всё забыто, боль и голод, грязь и страх. У костра ложимся, твердый камень в головах. Да, да, всё так.
Все котомки сложены, пара лаптей и рубаха холщовая переодеться, если упаду за борт. Сапоги взяла. Зачем? В них худо ходить по доскам и бочкам, скользит резиновая подошва. Итак, поплыла Динка вдоль по матушке Юзы. Дрожу от страха, кругом вода. Не дали мне поболеть. Я на одно ухо оглохла и горло болит. А какое дело кому до меня? Становись к лопастям и жми со всей силы. Долго я осваивала профессию лоцмана. Надо грести лопастями, в бревно вделана доска широкая. Я еле поднимаю это бревно, а потом по воде грести. Хорошо, что меня поставили с Мишкой. Он уже бывалый, ходил не раз на паромах и на плотах. Ему уже за сорок, умный мужик, не ругает меня. А показывает: как и куда грести. Он стоит впереди, а я сзади парома. А паромы несутся, только успевай, направляй по руслу. На ночь приставали к берегу. Ночью не плыли. Может течением перевернуть паром. Под нашей ответственностью 900 бочек, по 300 на каждом пароме. Плыли друг за другом. К берегу приставали. К берегу пристать — это очень трудно. Подплываем к берегу. Одни человек выскакивает, ему кидаем кол, заостренным концом с тросом колом нужно воткнуть в землю или тросом закрутить за дерево. Я это быстро освоила, научилась выскакивать на берег. Мужчинам нравилась моя расторопность. Молодец, Динка! Но однажды не успела кол схватить, и паром уплыл. Я бегу по берегу, а по реке течение быстрое и паромы уплыли. Я так испугалась, бегу, думала -догоню. Осмотрелась, нет ли где деревни. Какое там! Нигде не видно жилья. Вот уж пожалела, что не запилась. И вдруг мне ещё преградила путь река, широкая, и впадает в нашу Юзу. Что делать? Леса нет, вырублен, спичек нет. Куда пойду? Конец моей жизни.
Ох, где-то горе горькое по лесу шлялося и нечаянно на меня набрело. Стою на берегу, кричу, а кто меня услышит? Реки слились. Такой шум, разлилось, как море. Я вся замерзла. Онучи съехали, но у меня уже нет сил переобуться. Всё равно погибаю, паром не повернуть против течения. Я сейчас отойду подальше от реки, а пойду и утоплюся на осиновом пеньке. Ну, кому какое дело, только брызги полетят — «Нескладушка». Я уже не надеялась на спсасение. Уже темно, но луна светит полная, видно, как плывут на плотах. Но им некогда смотреть по сторонам и разглядывать меня. Пойду-ка я в лес, залезу на елку. До утра надо продержаться, а там видно будет.
И вдруг слышу какой-то всплеск на воде, может, рыба или черти? Присмотрелась, а это наш начальник плывет на лодке. Я от радости кричу, плачу, ухватилась за него — не верю, что за мной приплыл Малухин. Говорит: я больше твоего испугался! Если бы что с тобой случилось, то мне тюрьма. Я же за всех в ответе. Я очень рад, что ты жива. Ну ты больше не выйдешь с парома, твои напарники совсем обнаглели. Им лень лениться, всё девчушку посылают. Но я завтра их отработаю по швам, наглецов.
Плывем уже 10-й день, так все устали! Кажется, конца не будет! Все мокрые. У лаптей даже веревки сгнили. Вторую пару лаптей донашиваю, а сапоги размокли, как холодец.
А ещё случай. За продуктами всегда ходит Малухин. У него деньги. А тут вдруг изъявил желание пойти в деревню, купить продуктов. Ну и пришёл, на себе притащил барана. Сказал, что купил дешево, и бутылку водки. Ну, тут быстро мужики разделали тушу, поблагодарили Миколу — молодец! Баран жарится, сегодня обед вкусный, сидим у костра, а какой запах! И видим: скачет мужчина на лошади. Видит, шкура висит на кустах. Мясо, остатки засоленные, в ведре. Мужчина, где вы взяли барана? Да вот, наш товарищ купил в деревне. Он не купил, а украл со двора. Раз вы уже жарите, то платите деньги, иначе сейчас придет милиция. Малухин отдал 250 рублей. Миколу отвел в сторону и долго с ним говорил. Микола и есть не стал баранины.
Наконец-то мы пришли на конечный причал, в город Мантурово. Теперь нам предстоит выкатывать все бочки с паромов. Это адская работа. У нас у всех голова кружится, 12 дней на воде провели, не раздеваясь. На нас все фуфайки излохматились в клочья. На мне брюки из толстого холста. Как намокнут — как железо. 7 дней выкатывали бочки на берег, а потом ещё по песку очень далеко до дороги, где их грузят на машины. Это уже не мы грузим. Также жили на берегу, делали шалаш из досок и на землю настелили досок. Костер жгли день и ночь. Паромы нельзя оставить без присмотра — могут украсть. Сдали всю продукцию химзаводу. Малухин получил деньги — всех рассчитал нас, всем по 400 рублей. А Миколе буяну 200 рублей. Ну что, деньги есть, идем на рынок. Я и не слыхивала, что это такое — рынок. О, Боже! Сколько народу, шум, гам. Все нарядные, все в ботинках ходят. Мне надо купить ботинки, скоро Троица. В лаптях уже стыдно ходить. Смотрю, мужик продает ботинки. Ну, я своих мужчин прошу: помогите мне купить ботинки. Но присмотрели ботинки, крепкие, со шнурками. Только уж сильно носатые. Померила — хорошо, ноги не жмет, нога ходит в ботинке. В носки насую кудели и будут как раз. Малухин говорит: бери, Динка, хорошие ботинки. Отстегнула 150 рублей и в котомку. Ещё бы надо купить ситцу на платье. И всей гурьбой пошли в магазин. Всем надо что-то купить, женам, детям. Отоварились, довольные. Теперь надо искать попутку. Доехать до Тотьмы. Наконец доехали до Тотьмы, уже темно, до дома осталось ещё 120 км. Но это можно пешком дойти. Малухин пошел ночлег искать. Пустили нас в Дом колхозника. Народу в нем полно. Кто в Вологду, кто в Ляменьгу. Меня поместили на женскую половину. Объяснили: кровати все заняты, спите на полу. С вас денег не возьмем. Ну ладно, здесь хоть ветра нет и дождя. Я сразу котомку сняла и под голову. И всё, отключилась, уснула. Почти месяц прожили без крыши над головой. Я и такому пристанищу рада. Завтра должны добраться до дома.
Конечно, мы до дома не добрались. Малухин Костя нам объявил: ребята, мы все очень устали. Давайте поговорим. Согласны ли вы поработать сегодня здесь на складе — колоть соль, она слежалась в один ком. Надо долбить ломом, киркой, кувалдой. За работы дают за день 20 рублей и каждому из нас по 5 кг соли. Вы знаете, что дома соли нет. Домашние будут очень рады, соглашайтесь. Ну что, 5 кг соли — это самое то, без чего мы страдаем лет пять. Пришли на склад, о Боже! Гора из соли. Как к ней подступиться? Как кремень. Кое-как откололи глыбу -центнер. Но уже легче стало. Я долблю кувалдой, куски на мелочь. Работа пошла. Но на нас вся одежда лохматая, вбирает соль. И в глаза, и в лицо пыль лезет. Мужики ворчат: вот дураки, взялись за такую работу. Чтоб эта соль провалилась сквозь землю! «Упадышев, ты со своей ленью, да ещё и каркаешь. Ну-ну, ещё подеритесь. Ребята, давайте поднажмем. Я думаю, до ночи сделаем», — это Малухин Константин Николаевич. «А как же насчет пожрать?» — «Хорошо. Баженова, давай со мной в магазин». Купили 5 буханок хлеба, ведро воды захватили с реки. Соль есть. То ли не обед! Хлеб быстренько умяли, а воды не хватило, я принесла ещё два ведра воды. От соли не дыхнуть, и все же мы всю соль раздробили. Хозяин пришел, рассчитался, мы пошли на вокзал, скамейки все заняты. Мы все сели на пол. Спали сидя, на рассвете вышли искать попутку. Машины все груженые, берут только в кабину по 2 человека. Но нас взял шофер, двое в кабину, четверых в кузове. Наконец, доехали до села, а там ещё надо дойти до Вымположа, на завод 18 км. Это ерунда, и ночью дойдем. Подошли к заводу, лодки нет. Надо переходить реку, искать, где помельче. Собрали все котомки в одну, наденем на Динку, и я её понесу, чтобы не смочить котомки. Ну, и пошли. А Микола запнулся, я полетела на середину реки, на глубину. Вода холодная. Словили меня и мешки, намокла соль, намокло всё, что котомках.
Прихожу домой, у мамки совершенно поесть нечего. Деньги есть, в Рослятино есть, наверное, хлеб. — «Динка, в магазине продают только пряники белые мятные по 20 рублей кг. Их не наешь, а хлеб дают только служащим по 400 г.» Картошку посадили под плуг, помогали всей деревней. «Динка, тебя выбрали бригадиром на Лукино». — «Ещё чего, ты сказала, что я не умею ни писать, ни читать. Мамка, вот ты и иди, пишешь и считаешь. Или мало девок в Лукине? Нина, она закончила 4 класса, вот её пусть и ставят». — «Нину, твою подругу, назначили животноводом, скота теперь много у нас. Овец пригнали 80 штук, Петровна за ними ходит. На Лукино ещё коров добавили, 15 штук. Мишку Немкина поставили кладовщиком. Мишка тоже со мной на сплаве был, как же без его согласия распорядились? Динка, тебе ещё дают Венеру пахать». — «Мамка, я так устала. У меня нет сил, пойду баню истоплю. Хоть помыться, сколько на мне грязи. В бане надо веником отскабливать».
Приняла дела бригадира. О, Боже! Сколько ещё пахать, сеять, боронить. Люди все еле на ногах держатся, голодные. Дети собирают пистики (по-ученому, полевой хвощ), по рекам щавель уже подрос. Скоблят сок сосновый, березовый. Но это все не споро. Мне завидуют, на сплаве хлеб ела. Мы с Ниной жили в конторе, на Лукине. Вставали в 5 часов. Я бегу к конюху: готовы ли кони на пашню. Проверяю, дал ли коням овес. Вижу, не всю норму дает коням, но молчу, понимаю, ему самому есть нечего. Людей не хватает, надо огороды городить вокруг пастбища, для овина надо дров заготовить, чтоб за лето высохли. Привезли кузнеца, с Лукерино. Ноги изранены, на костылях ходит. Пришлось мне ему помогать. Он железо нагревает, а я бью молотом. Вот работа! Во мне, наверное, кишки лопнут, работа нечеловеческой силы.
Уже июль, сенокос. Опять соревнование — кто больше выкосит. Как плохо без Веньки! В 3 часа ночи очень боюсь, но иду на Пеженгу выкашивать гектар. Выкашиваю по гектару. Конечно, эти дни некогда мерить — кто сколько выкосил. Хожу назавтра меряю. С вечера направляю, кому куда идти. Ну, теперь все силы косить и сено загребать. И сено метать большие обзороды, по 10-15 центнеров. Один человек укладывает, другой дает. Вилы большие, еле поднимешь. Загребли сено, и пошли домой. А сено складываешь до темна. Еле ноги приволокешь. Нине полегче, она утром у доярок молоко примет. Сдаст экономке и до вечера ходит косить на полдня. Проверяет коров, телят, свиней. Пишет отчет. Слава Богу, сенокос закончен. Теперь уборка хлебов. И лен поспел теребить, а тут ещё похлеще: председатель объявил нам — дают трактор на целую неделю. Надо срочно напилить, насушить березовые чурки, для трактора. Нужно вспахать под пар, сеять под зиму рожь. Приехал Венька, какая радость! Привез зубатку соленую, большую, отрезали кусочек, вымачивали и ели. Я просила председателя: выпиши, что есть на складе, накормить нечем. Выписал 8 кг муки, сказал никому не говорить. Венька такой радостный, в костюме, белая рубашка, в ботинках в хороших, не в кирзовых. Я спрашиваю: Венька, расскажи про город, как там живут? И нравится ли тебе там жить? Динка, тебе не понять. Тут мамка встренула: «Венюшка, ты к ней не подходи, не разговаривай, ты ведь знаешь, что она дура». Вот, весь разговор с братиком. А я так ждала его. Я всё на Лукине, некогда пообщаться с ним. На Лукине во всю пилят чурку. Сушат на овине, колют мелко. И вот пришел трактор, обе деревеньки прибежали смотреть. Что это за чудо? Ой погляди-ко, три плуга, значит, он пашет за три лошади. Во, какая сила! А еще, гладите, колеса вставлены в какие-то решетки с шипами. Федька говорит: это называется — гусеницы. Ой, вот чудеса неписанные! .
Трактор готов выйти в поле, но некого поставить прицепщиком. Тракторист уже вне себя. Ну, что я могу сделать? Толик, не ругайся. Счетовод за меня поработает, а я сяду на прицеп. Покажи, что я должна делать. Динка, это очень тяжело! Вот смотри, ты сидишь, перед тобой подниматель на поворотах, поднимать плуги, нажимаешь на себя, плуги поднимаются, или камень увидишь или пень, сразу поднимай. Ну что, работала и в кузнице, и с трактором справлюсь, давай пахать, в добрый час! Пахали дотемна. Я слезла с сиденья и не могу идти. А пыли сколько проглотила! Вся в пыли. Только глаза видно. День давно кончился, а мне надо сводку давать: сколько вспахали, сколько сжали ржи, чурки высушили, сколько вывезли навоза в поле и сколько его растрясли, сколько заборонено. Теперь кормят, дают гороховой муки. Варим кисель, скоро будем подкапывать картошку молодую. Грибы уже появились, но некому и некогда сходить. Теперь самая ответственная пора — уборка хлебов. Надо опять рожь выбивать из снопов. Люди все истощенные, не хотят на такую работу. У председателя прошу, плачу: снимите меня с бригадиров, я тоже не железная! И на трактор не пойду — это мужская работа! А где я тебе мужика найду? Теперь сухо, рожь в суслонах подсохла, надо возить, в копны класть. Динка, пожалуйста, вспашите пар, засеять и заборонить, с полей убрать, а там уже 4 октября на лесозаготовки готовьтесь. Господи! Когда эти лесозаготовки кончатся! Лет так через 10, стране нужен лес. Ну что, поплачу, и опять на трактор. По 10 часов пашем. Хорошо, что нам дали бензину, мы с Нинкой сделали коптилку из банки, фитиль просунули и поздними вечерами пишем сводки, отчеты. Она мне помогает. А ещё она каждый день берет литру сливок, мы пьем, на этом ещё и держимся. А то хоть зашибись.
У нас опять новость, сногсшибательная: наши обе деревеньки присоединяют к колхозу «Акиновец». Это от Лукино 7 км в лес. Там три деревни: Акиницы, Доровадский починок и Ярышовы. В эту деревню нет дороги, только зимой на санях возят налоги. Колхоз богатый, там председатель умный. Скрывал от управленцев земли. Там много хуторов выселили в большие деревни, а землю пахали, и колхозники не голодали как мы. Приказ: явиться на собрание всем в Акиницы. И пошли через Лукино, все вместе пошли, люди недовольные, всю жизнь с Лукериным, там все родственники, и родом все с Лукерино. Пришли в контору, о боже! Люди незнакомые, они нас осматривают, а мы их. У них было электричество, работал движок на Пеженге, на дальней. Их три Пеженги. Свет включали когда идет жатва и по праздникам. Мы все сели на скамейки, включили приемник для всех, это был шок. Надо же, из ящика идут звуки, музыка и разговор. Хотя не очень понятно. То треск, то щелчки. Мужчина его то покрутит, то поколотит, и опять тренькает. Выступает председатель Акиновский Георгий Андреевич: «Очень не хотелось брать вас в свой колхоз. Вы нам только убыток несете. Земли у вас не плодородные, скота мало, кони одно старье». Тут наш председатель встал: «Мы к вам не напрашиваемся. Жили 100 лет без вас и не тужили. К вам ни дороги нет, живете в дремучем лесу, а если так решила партия, то надо соединяться без всяких выкрутас. У нас пять человек партийных. Молодежь . 14 человек комсомольцев. Вы, возможно, в газетах читали, у нас стахановцы. Это Упадьппева Нина, Баженова Дина. Они косят по гектару в день, жнут по 25 соток, при норме — 9 соток. И много других. Не отстают от них, у нас люди трудолюбивые». Акиновский: «Я вас выслушал, наши люди не хуже ваших. Теперь надо договориться — сколько людей дадите на лесозаготовки. Лес будем рубить в нашем колхозе. Кони ваши и наши должны стоять здесь, в Акиницах, а также и лесорубы».
Я опять на лошади Венере, она меня не забыла за лето. Как подошла к ней, она сразу полезла ко мне в кармац. Я ей всегда даю лепешку или кусочек хлебушка. Сама не съем, отдаю Венере. Умнейшая лошадь! Когда пашу на ней, не хлещу её, как другие хлещут кнутом. Венера сама знает, где в конце полосы заворачивать. Я еле успеваю за ней, знает, в какую борозду встать, я работала на многих лошадях: на Корытихе, на Дунечке, на Юрике — и на быке. В Акиницах мы с моей знакомой Августой нашли квартиру у пожилых людей, такие милые дед с бабушкой. Они рады нам, живут одни, сын уехал в Мурманск и не пишет. Вечером приезжаем из леса, они для нас печку натопят, самовар вскипятят, и каждый вечер на столе кринка молока. И скажут: «Девочки, пейте молоко. У нас коровушка хорошо дает молоко. Отел только в июне». Ну мы с Густей довольны, радехоньки. Обо мне и мамка так не заботится, как эти старички. У Густи, был друг, Некипелов Ленька, хороший мальчик, как девчонка, стеснительный. Молодежи много со всего колхоза нового. Собирались в клубе, контору поделили надвое, сделали клуб. Ребята с гармошкой, ну, и песни. Пляска, танцев не знали. Ленька познакомил меня с парнем из дальней деревни Ярышово, с Николаем Вязниковым. Вот человек, не видел света белого. Если вызывали его в круг плясать, то он сожмется, закроет лицо руками — и не вытащить. А на работе он на погрузке бревен. Они нам нагружают дровни с подсанками, а мы отвозим на реку Юзу. Это далеко, 15 км. 2 раза в день. Иногда и 3 раза, если не дотянем до нормы. Дорога одна, а из других колхозов тоже этой дорогой ездим. Иногда пропускаем, стоим. Эту зиму, хорошо, что в субботу домой ездим, радом стоим. Я подберу сухую лесину и тащу домой, лошадь на конюшню к Степану. Мамка хвалит, что сухую дровину привезла.
Зима закончилась, слава Богу! По древесине план еле выполнили. Наш новый председатель дал мало людей для валки леса. Теперь все колхозники возмущаются, претензии к бывшему председателю: куда делись деньги, полученные за сдачу продукции государству? Анатолий Тимофеевич отчитывается, купили хомуты, седёлки, шлеи, узды, дуги, телеги, колеса, к ним бороны, плуги, эко как заврался! Все это наши старики сделали! Если нам не выплатишь деньги, мы тебе устроим самосуд. Так, так, бабы, кастрировать его, подлюгу-пьяницу! Прокричали — и всё. А нам опять повестки на окатку леса в Зайчики, на 15 апреля. Дома побыли всего 11 дней. Я лаптей сплела для себя и мамки. Как мы все устали, лесорубы, хоть бы дали время посадить картошку. И опять мы в Зайчиках, и наши кавалеры с нами. Здесь барак длинный, разгорожен на узкие, как кладовки, комнаты, по два топчана голых, окно. Дали замочек маленький. Опять мы с Густей живем. Кормят один раз — кисель гороховый, пол-литра. И когда же кончится этот горох. Каждый год — одно и то же. Уже тошнит от него! Девки, не каркайте, а то и его не получим. 29 апреля скатили весь лес, идем домой. Лапти у всех разлохматились, фуфайки разорвались. Готовимся к 1 маю. Пахать ещё сыро. Мне опять на Венере пахать выборочно, где подсохла земля. На Лукине выехали пахать, а внизу лед. Я распрягаю лошадь, подбегает бригадир: «Динка, прошу тебя, умоляю, три трудодня запишу. Нужно Густю, Ленину жену, отвезти в роддом». «А где же Леня?» — «Он ушел к родственникам на свадьбу». Ну ладно, у меня лапти все в глине. Ничего, давай быстрее запрягай в телегу лошадь, всё поехали. Густя стонет, я боюсь, вдруг она умрет. Проехали поле, и она: «Ой, Динка, останови кобылу, я рожаю». Закричала во всё горло: «Динка, помоги!» Как? Что мне делать? «Тащи ребенка!» Я подошла, о, ужас! Мне кровью всю окатило, и такой страх меня взял. У меня свет потемнел, я упала. Очнулась от крика. Густя все ещё орет. Наконец вылез ребенок, и кишки какие-то тянутся. Но ребенок не дышит. «Динка, мне подай узелок и ножницы, надо ему завязать пуповину! Что делать? Мертвый ребенок, что мне Лёня скажет?» — «Так почему ты его отпустила на свадьбу?» Ребенка завернули, положили на сено и поехали обратно домой. Густя плачет, говорит: замерзла я. Я лошадь погнала, и вдруг кулечек зашевелился, и так закричал ребенок. Густя теперь плачет от радости.
Весна закончилась. Вспахали, засеяли, всходы хорошие. Теперь идет сенокос. Опять соревнование. Я за сенокос выкосила 16 гектаров. Лида Выдрина 15 гектаров. И опять мы попали в газету «Сталинский ударник». На собраниях хвалили нас, выдали премию по 2 м ситцу это от района, от колхоза по 5 кг муки. Мелочь, а приятно. Вязников тоже был на собрании, радовался за меня. После собрания веселились стар и мал, включили музыку, пели, веселились, конечно, без выпивки. Водку продают только в районе. Мы с Николой не виделись 3 месяца. Я и не подумала, что на собрании его мать была. Николай подошел и говорит: я тебя познакомлю с мамой. Я так испугалась: не надо знакомить, мне страшно, я убегу! Он схватил меня за руку, подвел к меня к матери: «Мама, это моя невеста, я на ней женюсь». Я думала, со стыда провалюсь сквозь землю, лицо огнем загорело. Мать меня рассматривала, как корову выбирала. Говорит: «Девка крепкая, красивая, вон какие у неё щеки красные. Это её хвалили, по гектару косит? Вот такая нам и нужна. Я знаю её родителей, она из хорошей породы. Молодец Колька, хорошую выбрал девку! Я думаю, отцу понравится твой выбор». Я еле выдавила: «Извините, мне надо идти домой. Наши все уже пошли, теперь увидимся только 4 октября на лесозаготовках».
Теперь страда, уборка хлебов. Опять не разгибаясь, от зари до зари, только серп звенит. Дедушка мне сплел берестяные полусапожки, так в них удобно без онуч. Ноги всунул и идешь, и стерн не колет голени, а то так исколет, просто надо до колен онучи навернуть .
Мамке рассказали, что меня сватали. Вот чего я и боялась. «Что, замуж собралась? А мне ни слова, нашла жениха не знать откуда. Вот у Марьи 4 парня, за любого иди, старший скоро придет с армии. Он тебе и письма пишет, ты ему нравишься». — «Мамка, я их всех четырех ненавижу». — «Это мы ещё посмотрим». У мамки брат Михаил, портной. Ходит все в деревню Доровадский починок, у них там дочь Катя, замуж туда вышла. Ему рассказала, что меня сватают. Наговорила обо мне, что я лентяйка, если наденет платок, то пока до дыр не издерет, не снимет, ест помногу, неряха, ни помыть, ни постирать не умеет. Ты, братик, расскажи там.
Бывалая лошадь моя Венера, как долго ты будешь моей, и снег ли, жара или дождь, ты по ухабам тряслась. Бывало, болотную грязь месила по самой середке. Забор могла проломить и по полю промчаться галопом. Прерывистым шла, вставала порой на дыбы, но шла, как учили вперед. Скажешь, нескладуха, ну и пусть, говори, смейся, я на ней проработала 5 лет и 5 зим. Когда я приехала через 8 лет, она меня узнала, подошла и лезет в карман, но у меня ничего не было дать ей. Я забыла её, мне было стыдно.
В это лето у нас с мамкой радость — Веня приехал и Лида с мужем. А у нас ни поесть, ни попить. Лепешек наших гороховых не едят. Во какие господа! Но у нас есть сахарин, в аптеке продается, все в деревне пьют. Бросим в самовар 10 штук, сладко, вкусно. С мамкой два самовара за день. В аптеке говорят, 1 штуку на 10 л ?оды. Вредно для здоровья, а нам нравится. Лида такая гордая, всего-то три года уехала. Почему у вас кроватей нет. Где вы спите? Мамка на печи, я больше живу в Лукине, теперь жнива, спать только 2-3 часа, с утра раннего. Овин высох, бежим молотить, просеем зерно, уже вечер. Везем зерно государству в Рослятино. Обратно приезжаем, 3 часа ночи, и опять бежим в поле, соревнуемся: кто больше выжнет. Лида Веню отправляет в Рослятино, но там хлеба нет, только эти пряники, белые мятные. Приносит полный кузовок и ест. Лида удивляется, как Веня за 3 часа ходит туда и обратно. Мне подарили платье. Мамке — что, не знаю, не показывает. Лида привезли рису. Мамке велела сварить кашу. Она насыпала, залила водой, прикрыла сковородой чугунной и поставила в жаркую печь. До вечера каша варилась. Горшок лопнул глиняный, хорошо еще, каша не вывалилась. Лида накричала на мамку, но та оправдывалась. Мы же не видали, что это за зерно. Ты сама, Лидонька, вари. Мы люди темные. Видите, как живем. Хлеба не едали лет 10. Все на картошке живем. Лидонька, ты же ведь помнишь, как жили — так и живем. У вас в городу-то хлебом кормят?
Мой дядюшка, мамин брат, от души постарался меня выставить в разных красках и цветах. Пусть бы это было правдой, он мужчина сплетник, я ему племянница. Он-то зачем меня выставляет на посмешище? Меня лучше знают, с кем я работаю. Зиму на лесозаготовке, лето почти все в Лукине. Мы все вместе, одинаковые. Никто про меня не скажет, что я хуже других. И до Лукина все эти сказки дошли. Мать мою отругали: Асафьевна, как это ты свою дочь порочить? Каждая бы мать гордилась такой дочерью. По колхозу у ней больше всех трудодней. Это только за лето. Зимой кто больше всех вывез лесу на эстакаду? Скажут, это Динка. Кто может из её сверстников лапти плести? Только Динка. Ну что, мать моя своей хитростью оправдывается, что она ничего такого не говорила. Ну, пусть будет на её совести. Со мной стала стыда провалюсь сквозь землю, лицо огнем загорело. Мать меня рассматривала, как корову выбирала. Говорит: «Девка крепкая, красивая, вон какие у неё щеки красные. Это её хвалили, по гектару косит? Вот такая нам и нужна. Я знаю её родителей, она из хорошей породы. Молодец Колька, хорошую выбрал девку! Я думаю, отцу понравится твой выбор». Я еле выдавила: «Извините, мне надо идти домой. Наши все уже пошли, теперь увидимся только 4 октября на лесозаготовках».
Теперь страда, уборка хлебов. Опять не разгибаясь, от зари до зари, только серп звенит. Дедушка мне сплел берестяные полусапожки, так в них удобно без онуч. Ноги всунул и идешь, и стерн не колет голени, а то так исколет, просто надо до колен онучи навернуть .
Мамке рассказали, что меня сватали. Вот чего я и боялась. «Что, замуж собралась? А мне ни слова, нашла жениха не знать откуда. Вот у Марьи 4 парня, за любого иди, старший скоро придет с армии. Он тебе и письма пишет, ты ему нравишься». — «Мамка, я их всех четырех ненавижу». — «Это мы ещё посмотрим». У мамки брат Михаил, портной. Ходит все в деревню Доровадский починок, у них там дочь Катя, замуж туда вышла. Ему рассказала, что меня сватают. Наговорила обо мне, что я лентяйка, если наденет платок, то пока до дыр не издерет, не снимет, ест помногу, неряха, ни помыть, ни постирать не умеет. Ты, братик, расскажи там.
Бывалая лошадь моя Венера, как долго ты будешь моей, и снег ли, жара или дождь, ты по ухабам тряслась. Бывало, болотную грязь месила по самой середке. Забор могла проломить и по полю промчаться галопом. Прерывистым шла, вставала порой на дыбы, но шла, как учили вперед. Скажешь, нескладуха, ну и пусть, говори, смейся, я на ней проработала 5 лет и 5 зим. Когда я приехала через 8 лет, она меня узнала, подошла и лезет в карман, но у меня ничего не было дать ей. Я забыла её, мне было стыдно.
В это лето у нас с мамкой радость — Веня приехал и Лида с мужем. А у нас ни поесть, ни попить. Лепешек наших гороховых не едят. Во какие господа! Но у нас есть сахарин, в аптеке продается, все в деревне пьют. Бросим в самовар 10 штук, сладко, вкусно. С мамкой два самовара за день. В аптеке говорят, 1 штуку на 10 л ?оды. Вредно для здоровья, а нам нравится. Лида такая гордая, всего-то три года уехала. Почему у вас кроватей нет. Где вы спите? Мамка на печи, я больше живу в Лукине, теперь жнива, спать только 2-3 часа, с утра раннего. Овин высох, бежим молотить, просеем зерно, уже вечер. Везем зерно государству в Рослятино. Обратно приезжаем, 3 часа ночи, и опять бежим в поле, соревнуемся: кто больше выжнет. Лида Веню отправляет в Рослятино, но там хлеба нет, только эти пряники, белые мятные. Приносит полный кузовок и ест. Лида удивляется, как Веня за 3 часа ходит туда и обратно. Мне подарили платье. Мамке — что, не знаю, не показывает. Лида привезли рису. Мамке велела сварить кашу. Она насыпала, залила водой, прикрыла сковородой чугунной и поставила в жаркую печь. До вечера каша варилась. Горшок лопнул глиняный, хорошо еще, каша не вывалилась. Лида накричала на мамку, но та оправдывалась. Мы же не видали, что это за зерно. Ты сама, Лидонька, вари. Мы люди темные. Видите, как живем. Хлеба не едали лет 10. Все на картошке живем. Лидонька, ты же ведь помнишь, как жили — так и живем. У вас в городу-то хлебом кормят?
Мой дядюшка, мамин брат, от души постарался меня выставить в разных красках и цветах. Пусть бы это было правдой, он мужчина сплетник, я ему племянница. Он-то зачем меня выставляет на посмешище? Меня лучше знают, с кем я работаю. Зиму на лесозаготовке, лето почти все в Лукине. Мы все вместе, одинаковые. Никто про меня не скажет, что я хуже других. И до Лукина все эти сказки дошли. Мать мою отругали: Асафьевна, как это ты свою дочь порочить? Каждая бы мать гордилась такой дочерью. По колхозу у ней больше всех трудодней. Это только за лето. Зимой кто больше всех вывез лесу на эстакаду? Скажут, это Динка. Кто может из её сверстников лапти плести? Только Динка. Ну что, мать моя своей хитростью оправдывается, что она ничего такого не говорила. Ну, пусть будет на её совести. Со мной стала ласковой. Видит, что допекла меня, что теперь думает Вязников. Да, я ждала, чувствовала, что вот-вот провалюсь в бездну. Полетела в неведомое и неизвестное. О, люди, поддержите меня. Поставьте на верный путь, вы взрослые, у вас есть жизненный опыт, я к вам обращаюсь, люди. Я чужда для своей матери, если б я сейчас умерла или позже, не все ли равно, никому и дела нет. Мамка, что ты делаешь со мной? Любила ли ты когда? И мог ли заменить кто другой этого любимого? Мать, ты как жестока. Как не задумываясь над моим будущим и убиваешь, рушишь все то, что есть человеческого, чистого, настоящего. Вязников прискакал ко мне в Лукино. Мы с девчатами грузили мешки с зерном, повезем на Заготзерно в Рослятино. Мне кричат, Динка, к тебе приехал Николай. О, Боже, мне страшно! Как он воспринял всё то, что говорилось обо мне? Николай спрыгнул с лошади, закружил, целует, я увертываюсь. Ты что, сдурел? Да, да я сдурел, я очень соскучился, я за тобой приехал. Колька, ты перегрелся осенним солнцем. Я на работе. Ты меня отвлекаешь. Меня заругают. Дина, мне родители сказали, вези невесту домой и точка. Да ты что? Я не могу ехать с тобой, так сразу. Подожди, управимся с полевыми работами, потом поговорим, куда нам спешить. Надо мне у матери спросить разрешение. Дина, я сейчас съезжу к твоей матери и подожду, пока вы везете зерно. Николай, поезжай домой, скоро будет собрание, там встретимся и поговорим.
Николай был у нас уже много раз. Как-то приехал, меня не было, я была в Лукине, мы с девчонками копаем картошку колхозную. 4 октября опять в лес. Мамка с Николаем долго говорили, о чем не знаю, думала, что опять что-то наплела. Николай мне говорил: мать твоя мне не понравилась. Я уже не спрашиваю, все поняла, чего она наплела. «Дина, давай поженимся до октября и ты не поедешь больше на лесозаготовки». — «Николай, я ещё не готова замуж, у меня ничего нет, ни обуть, ни одеть, давай подождем. Ты видишь, как мы живем». -«Дина, а мне у вас в доме понравилось, все бело, светло, высоко. А вот тебе в нашем доме не понравится. У нас дом большой, низкий, 8 окон в доме, а темно. Стены и потолок — черные. Мама мыть не может, у нее руки болят». — «Николай, мы договоримся, поработаем, теперь будут хорошо платить, нам за выработанную древесину». Как нам всем надоели эти лесозаготовки. Из всех работ я люблю косить. Даже немного больше, чем другую работу. За свежесть и чистоту утра, за склонность и раздумье, когда, закончив прокос, не спеша наклоняешься к траве, чтобы утолить брусок в холодных брызгах росы. А Пеженга ещё совсе белая от тумана, и темный бор над кручей веет чем-то сказочным и удивительно дорогим. Взойдет солнце, я словно иду за ним, прокладывая широкие дороги прокосов. Шаг за шагом след в след, наливаются усталостью руки. Тяжело вскинувшись, оседают задумчивые травы.
О, я отвлеклась со своим сенокосом, мы опять живет в Акиницах с Густей у тех же деда и бабы. Они соскучились по нам, я им дров навозила на зиму. Они нам дают картошки, у нас её много. Нам дают хлеба также по 400 г, масла подсолнечного по 200 г. Есть столовая, каши дают по 2 порции. Но надо деньги экономить. Николай работает вместе с нами на погрузке леса. Всем нам помогает, кто на конях, бывает, то завертка у саней лопнет, то сбруя на конях. Все это устранял неполадки Вязников. В мороз голыми руками. Потому что рукавицы, как кол, мерзлые, ничего с ними не сделаешь. Вечерами мы с Густей встречаемся с парнями. Она с Ленькой, я с Колькой. У обеих нас свадьбы назначены 1 января 1950 года. Ждем, остался месяц холостяцкой жизни. Но мне сообщили: приезжай домой, мать заболела. С чего бы это заболела? Опять какой-нибудь подвох устроит мне. Домой ехать — надо у мастера отпроситься.
Мне всех тяжелее было из людей. Кому совета не у кого взять. Кому бывает много тяжелей. Кому совета некому подать. О, если б я знала, что бездна страданий меня ожидает, то я б преградила б ей путь. Видно не обойти мне большие печали, иду я навстречу им. А счастье было так возможно.
«Вся ли в поле рожь поспела, ежевика отцвела. Все ль я песни перепела. Все ль я слезы пролила». Эти слова из песни, они сродни мне. Приезжаю домой, мамка встречает меня улыбающаяся. Спрашиваю: что случилось? Она мне таким хитрющим голосом: «Динушка, ангел мой». С рожденья не называла меня так, думаю, с чего бы это я стала ангелом. «Динушка, мне тебя так жалко, по всей зиме в лесу надрываешься, знаешь, я тебя замуж выдала». — «Мамка, это получается, без меня меня женили, я на мельнице молол. Ну и за кого же ты меня выдала?» — «Так вот, за Шурку Марьина». О, Господи! За Шуреня! Да я их всех ненавижу. Он похож на курносого шимпанзе, у меня есть жених, я его люблю. «Динуха, знаешь ли ты, что такое любовь?» Ну, тут была перепалка. Я плачу, говорю: мы с Николаем 1 января поженимся, подали заявление в сельсовет, я его люблю, а он меня. «Динка, не ерепенься». Этот Шурень все лето гостил у матери, живет в Мончегорске. Мамка видит, что я в истерике, ушла из дома. О, Боже! Идут все, гурьбой. Марья с сыном и его теткой Анной, и начали меня обрабатывать — как мне будет хорошо в городе: будешь ходить в платье, в пальто, в тюфлях, в городу-то так каждое воскресенье отдыхают, а что видишь в колхозе, выходного не бывало и не будет. Ни одеть, ни обуть нечего. «Дина, давай соглашайся, такого случая не будет. Шурка у нас хороший, не курит, не пьет. Умен, закончил ФЗО, токарем. Хорошо получает, то ли не жених». Теперь моя очередь говорить. «Я не люблю вашего сына, у меня есть жених, мы женимся 1 января, мы любим друг друга уже 2 года. Я не могу другого полюбить. Да меня из колхоза не отпустят». — «Ты об этом не беспокойся. Мамка твоя уже всё уладила, Иван Парменович одобрил тебя, вы можете идти в Рослятино в понедельник».
Всё и вся против меня. И все-таки сломили меня. Разве можно идти против матери? Она не задумывалась о моем будущем, лишь бы меня выпихнуть из дома, а там хоть трава не расти. Уеду, письма не напишу и видеть не хочу, пусть она исчезнет из моей памяти. Сколько я выплакала слез, но сколько ещё предстоит выплакать. 3 декабря мы вступили в брак с Баженовым Александром Алексеевичем. Николай, я на колени перед тобой встану, мы с тобой клялись в любви, я изменила, пошла как кошка на приманку, прости, я тебя никогда не забуду. А нашу чистую любовь пронесу через века. И целовать из мести другого, вот этого люди не делайте никогда. Мне теперь кажется, что я всех предала, даже моя Венера меня потеряла. А поля,, и ты. земля прости меня. ~Сяезами~©бдвтая, потом орошенная. И ты прости меня, Пеженга, я прощаюсь сегодня с тобой, и в слезах пью очей твоих просинь. Самый милый мне, самый родной, и кричу, -итпенчу еле внятйо-.’Все мне дорого, все мне близко, в том краю, где я жила и росла. Я люблю эти домики низкие и березы люблю до слез. Я люблю наши белые ночи, наши Карпаты, ручьи и леса. Ещё раз кричу «прощай», а голос хриплый плачет, машу рукой, прощаюсь навсегда. Как обозначить, что я всё покидаю. Слезами, смехом, чем отзовется земля. Молчанием иль дремучего леса эхом. Да или нет, ответить мне надо. Николай, я хочу услышать твой голос, ну хоть раз, последний раз, раздайся в жизни, песне, в плаче, наконец. Николай, услышу ли я ещё, когда о себе такие слова ты сочинил для меня. Я их никогда не забуду. Не дороги расходятся — люди, и не надо дороги винить, если двое друг друга не любят, поезда будут также ходить. Легче без отдыха травы косить, чем безответное чувство носить. Мне бы какой-нибудь слышать ответ, но ни плохого, ни доброго нет. Может, я сама виновата в том, что сомненья сводит с ума. Может быть, чувство мое велико, и говорить про него нелегко. Все-таки дай мне какой-то ответ, чтоб различить, где свет, а где тень.
Приезд в Мончегорск
5 декабря 1951 года. Мы вышли из дома в мой день рожденья. Уложила свое приданое: подушечка, наматрасник, 2 платья, мамка тогда отдала Лидин подарок, 2 рубахи нижние холщовые, онучи новые, 2 пары лаптей и валенки новые и 500 рублей, мной заработанные. Сложили в свой деревянный чемодан. На мне штаны тоже холщовые, в которых лес рубила. Чемодан поставили на сани и пошли. Мать его нас проводила через поле. А мамка не простилась со мной, не пожелала удачи. Наверное, сидит на печи и улыбается. Радехонька! Наконец-то отдохнет от меня. Но подожди, как будешь дрова заготавливать для печи? Идем с муженьком, мороз с ветром, дорогу заметает. Я в лаптях иду легко, а горожанин в ботиночках, за лето не смог лапти сплести. Знал, что до Вологды машины не ходят. Надо пройти 360 км. Первый день прошли 15 км. Деревни пока мне знакомые, до самой Береговки. Ночевать пошли к моим знакомым. С Аней мы вместе работали на Вымположи. Она уже замужем. Нас приняли, накормили, напоили. Наутро рано много прошли. Эта дорога идет вдоль реки. Кругом лес рубят, живут в бараках. У нас пока с ночлегом нет проблем. Шурень очень устает. Да и ноги мерзнут. Часто приходится заходить в бараки, отогревать его. Хорошо, что мои валенки ему малы, а то бы я осталась без валенок. Мать хвалила сына: Шурка не курит и не пьет, а как дошли до магазина, так сразу бутылку водки купил и папиросами запасся. Идет дорогой, глотнет — и дальше. Мне предлагал, а я запаха боюсь. Наверное, меня отвратило, когда я проглотила целую бутылку. Но я того случая никому не рассказывала. Мы все идем, проходим большие села и малые городки. С ночлегом совсем худо. Вокзалы закрываются на ночь. Я умоляю: пустите на ночь, на улице замерзнем. До Вологды отсюда осталось 150 км. Отсюда идет Зимовье, идет узкоколейка, ходят три платформы. На вагон не похожи, обиты фанерой от ветра. Я говорю: Саша, давай поедем! Он: надо деньги экономить на поезд от Вологды до Мурманска. А я еще думала, что денег хватит. Я тебе отдала 500 рублей. Отдай мне, а то ты все пропьешь. Пошли пешком.
Ну, наконец дошли до Вологды, на вокзале я согрелась, здесь все чудно, такие диваны, людей полно, сидят и стоят. Боже мой, куда же эти люди едут в такую стужу? Сидели бы на печи. Я-то, дура, поехала в никуда. А люди то стоят, баско одеты, мужики и бабы все веселые, смеются, наверное, сытые. А я бы сейчас съела ры барана в шерсти. Мы только снегом питаемся. По деревням шли, там хоть подавали луковицу, картошки, а городе попрошу, так только насмехаются: девка молодая, иди работай, стыдись просить. Денег хватило на билеты только до Петрозаводска, в общий вагон еле втиснулись. Страх божий что творится! Не то что сесть, встать некуда. Кое-как порассосалось. Мужики залезли на 2-ю и 3-ю полку. Я втиснулась, на нижней полке села. Страшный поезд уносит меня в страшный тоннель навсегда. Мое счастье похитил, а сердце мое бьется железному поезду в такт: это так, это ты, это я. И увозит меня все дальше и дальше. Колес нескончаемый шум, я боюсь вспоминать, но забыть не смогу. О, слезы, конечно, вы тоже не вечны. Но я, кроме вас, ничего не имею. В вагоне такая духота, испарения. Мужики курят, говорят: в общих вагонах все можно делать. Даже в туалет не ходят по малому делу, дуют в штаны. Хорошо, мне не надо ходить: не пила и не ела 3 дня. А соседи все раскрывают сумки, едят яйца, сало, а то и колбасу, и хлеб. На второй день я не вытерпела, попросила: дайте мне хлебушка ломтик, мы давно из дома, деньги кончились. Мужчина говорит: я через час уже буду дома, в Петрозаводске, и дал мне полбуханки хлеба и сала соленого.
О, это счастье подвалило! Муженек мой увидел, мне маячит: поделись со мной. Мужчина разрезал хлеб и сало, и подал ему на 3-ю полку. Теперь что делать? Ещё почти сутки ехать до станции Оленья. Саша сходил к диспетчеру вокзала, ему сказали: тебя одного возьмем на товарный поезд. Тебя не берут, ах ты скотина, а куда мне деваться? Я разыскала главного по вокзалу. Он говорит: это ваш муж? Да, да, это мой подонок. Он не сказал, что у него жена, сказал: один едет. Нас взяли, везли в кочегарке, но меня пустили в вагон, доехали до Оленьи.
Оленья — это станция, а нам надо доехать до Мончегорска. Специальный поезд. Сели. Саша сказал: ты в вагон не входи, потому что пойдет кондуктор — потребует билет, от него убегай. О, Господи! Куда убегать! Наконец приехали в Мончегорск. Такая пурга, света не видно, от станции километра два, я иду как робот, ноги не идут. Пальцы из валенок вылезли, не чувствуют холода. Я не смотрю, куда идем и какой адрес тети Нины. Зашли в квартиру. Саша познакомил тетю: вот, это моя жена, из нашей деревни, Дина, дочь Асафьевны. «Тетя Нина, ты их знаешь». — «Ой, Боже, Шурка, ты с ума сошел. Сам себя не можешь обеспечить, а ещё и жену привез. Что ты думаешь своей головой? Ни работы, ни жилья не найдешь! Теперь везде сокращенья. Жену привез голую, босую, и сам гол, как сокол. Что, здесь не нашел бы жену с квартирой, с достатком? Куда ты теперь с ней? В самом деле, куда?» — « Тетя Нина, если бы у меня были деньги на дорогу, я бы один приехал. Это мне мама посоветовала. Сказала: женись на Динке, у них деньги есть. Девка хорошая, работящая». Мой муженек совсем упал духом. Теперь думает, как от меня избавиться. Мне в этот момент хотелось умереть. Нас напоили чаем с сахаром, и белый хлеб ели. Постелили нам на пол. Ноги я не могу вытащить из валенок. Голени истерлись до костей, все ноги в крови. Тетка ужаснулась, к&к же ты терпела? А что мне делать? Пешком прошли полторы тысячи километров. Я до утра не могу заснуть. Немного забудусь, и опять: где я ? что со мной? Может, это сон? Проснусь дома, и весь этот кошмар мне приснился. Но нет, всё это наяву. Господи, за что?
Утром я не могу на ноги встать. Голени распухли, кровоточат. Тетя Нина дала мази, я намазала. Но это когда заживет. А надо куда-то идти. Саша и тетка вышли на кухню. Я невольно подслушала их разговор. Саша говорит «Я сейчас её увезу в поселок. Там в нашем общежитии живет Миша Комаров. Динка мне говорила, что он ей какая-то родня. Я её отвезу к нему, и пусть он о ней позаботиться». Тетя Нина говорит: «Правильно и сделаешь, куда тебе с ней возиться. Или немедленно пусть едет в свою деревню». Я не сказала, что все слышала. Тетя Нина накормила нас, и мы собираемся идти в какой-то поселок Тростники. Как надеть валенки-развалюхи, остались одни голенища, и те стали тесны, на ноги не лезут? Пришлось разрезать голенища. Кое-как засунула ноги. Забинтованные. И мы пошли на остановку. Я еле иду, Саша ворчит: что как корова идешь, мне стыдно с тобой рядом идти? Я молчу, еле сдерживаю стон, но слезы сами текут по щекам. Приехали в общежитие. Комарова там не оказалось. Он женился и живет в другом поселке, Кумужье. Адрес не знают. Сашу с трудом оформили в общежитии, так как он пять месяцев отсутствовал. Потом на работу восстанавливали, меня показывал, паспорту не верили. Время уже темно, пойдем на завод, здесь автобусы редко ходят. Пришли на остановку. Людей много, все входят в автобус. А мы стоим, не знаю почему. Автобус пошел. Саша на ходу прыгнул, ухватился за ручки автобуса и поехал. Тогда еще автобусы ходили маленькие. Ступеньки и ручки были не внутри, а по эту сторону дверей. Я осталась, побежала за автобусом. Думала: догоню. И про ноги забыла, что болят. Добежала, смотрю: люди стоят. Я спрашиваю: как дойти до города? Мне говорят: садись в автобус и доедешь.
Автобусы приходят — написано: Монча. А мне надо в город. Я вся продрогла от испуга. Куда я теперь? Теткиного адреса не знаю, хотя бы фамилию знать. Народу совсем мало, подходят на остановку, уже ночь. Спросила у женщины: как попасть в город. Да ты что, девка, откуда взялась посреди ночи. Что я должна ответить? Говорю: приехала к тетке, её нет дома. Это на Кумужье, что ли? Да, да. Сама не знаю, что такое. Вот сейчас придет последний автобус, сядем и поедем. Так все автобусы идут на Мончу. Так они идут через город, поедем, довезу. А куда тебе надо, на какую улицу? Я не знаю, не запомнила, ни дома, ни улицы. А где села на автобус? А там была изба огромная, красная, окна белые. Ну, так это не изба, а кинотеатр. Тогда тут и выйдешь с автобуса. Вспомни, как шла. А в автобусе с меня потребовали 5 копеек за проезд. Я говорю, у меня нет денег. Но она настыдила: как не стыдно, вон какая рожа красная. Напиться было на что. Мужчина подал рубль, отвяжись от девчонки, сдачи не надо. Я вышла у кинотеатра. Что дальше? Куда идти? Я выходила весь город, вдоль и поперек. Руки замерзли, заходила в подъезд, погреюсь и дальше иду. Я только и помнила, когда вышли из дома с Сашей, там была горка, и дом у них длинный, как у нас скотные дворы для колхозного скота. Уже начало рассвета. Люди идут уже на работу, а я ещё кружусь у каждого барака. Вроде бы похож, но горки нет. Почему я не дача себя замерзнуть, так в чем дело, у меня же сил нет, и слезы кончились, осталось только в снег упасть и уснуть. А спать очень хочется. В голове стало какое-то мерцание. Я услышала, кто-то мне на ухо говорить: ты, Динка, не умрешь, ты не все муки ада прошла. Ты ещё должна слезами наполнить ведро. Когда-нибудь я уйду, а жизнь, она все будет продолжаться. 12 будет месяцев в году, и солнце будет людям улыбаться.
Вот так с первого дня изучала город, исходила по нескольку раз вдоль и поперек, в эту полярную северную ночь. Без рукавиц, на голове косынка ситцевая, пальтишко — плащ от солнца. Из валенок торчат пальцы обмороженные, а также на руках. Наконец, набрела на эту горку, но не обрадовалась. Пустят ли меня? Скажут: мы тебя не знаем, уезжай, откуда приехала в свою деревню. У меня язык распух, говорить не могу, сильный кашель. И в спину колет. И вся загорела. Пока на улице — знобило, а теперь жарко стало. Постучала в дверь, тетя пропустила меня и говорит Шурке: погляди-ко, женушка твоя всю ноченьку гуляла, наверно, уже и кавалера нашла. Надо же, до 8 часов шлялась. А что дальше было, не помню. Я как зашла в тепло, у меня в глазах потемнело. Я упала у порога. А когда очнулась, не могла открыть глаз. Так все болело тело. Хотела руку повернуть, а она никак. И тут слышу: больная, не дергай руку, капельница стоит. Бальная, как себя чувствуешь? Я еле-еле выдавила из себя: хорошо, и опять провалилась куда-то. Вижу, люди в белом летают до потолка, и я полетела до потолка, но машу одной рукой. Лечу, на улице зацепилось рукой, мне очень больно, я опять падаю. Вижу свою деревню, своих подруг — как обрадовалась. Хочу им рассказать кошмарный сон, мне приснился. Я то прихожу в сознание, то опять отключаюсь, наверно, я уже на том свете. Как мне хорошо — ничего не болит. Но опять меня тормошат. Больная, давай поднимайся. Обед принесли. Я не хочу есть. Как не хочешь, ты уже 3-й день здесь и все не хочешь. Девочка, скажи мне, где я? В больнице находишься. А как я сюда попала? Тебя привезли на «скорой», у тебя пневмония. Такая у тебя болезнь. А ноги будут ходить? Да если бы еще немного затянула, то было бы заражение ног. Девочка, скажи, эта пневмония в коленях у меня получилась? О, Боже, да у тебя легкие простужены.
Вот как, в ногах пневмония, да и легкие простудила. Я уже вроде понемногу прихожу в себя, но начинаю вспоминать Шуреня, и тетю Нину, и Геннадия Аркадьевича. И опять прибежала девка: почему не кушаешь? «Девочка, ты не ругайся, я буду есть». — «Больная, не называй меня девочкой, я — медицинская сестра, и говорить надо не ты, а вы». — «Я научусь, простите меня». — «Медичинская сестра вы-ты, помоги мне ноги спустить на пол». Сестра говорит: «Ой, умора, уписаюсь от смеха. Откуда ты приехала? Откуда ты приехала, никак с Белоруссии?»- « Нет, я с Вологодской области, Рослетино район». — «Кто тебе ноги так изрезал?» Я говорю: «Так мы шли пешком до Мончегорска. У меня было две пары лаптей, они быстро износились. Вот мне пришлось идти в валенках. А чулок нет, вот натерло». Она мне говорит: «Дивчина, я смотрю, ты бредишь. Ну, давай кушай». Я смотрю, на тумбочке стоит тарелка с похлебкой, с мясом и ещё тарелка с толченой картошкой. И на нее положена лепешка серенькая. Это похоже на нашу лепешку, из клевера печём. А попробовала — она из мяса, неужели это все мне? Конечно, надо есть, но не все. А то скажут: вот обжора, все съела. Стала привыкать, уколы делают, я не кричу, терплю. Сказали, что меня из реанимации переведут в палату. Не надо меня переводить, мне здесь хорошо очень. И что ещё за палата, может, подвал или в дом палачей. Господи, помилуй и помоги! Доктор зашел, меня хотят увезти из этой избы в другую. «Вы-ты доктор, поговори с медсестрой. Пусть меня оставят. Меня вылечишь, я уйду». — «Знаешь, детка, тебе придется здесь в больнице лежать самое малое еще недели три. У тебя серьезное заболевание. Воспалились легкие. И на ногах такие шрамы, загноение. О доме пока не думай». — «Дохтур, у меня здесь и дома то нет, некуда идти».
За днями дни прошли, как тени, а я все жду рассвета. Проходят дни и недели, я с трудом прихожу к действительности. А зачем мне приходить. Ух, как мне было хорошо на том свете, когда я летала. Все были ласковые со мной, ничего не болело, ни о чем не думала, а в этом мире я никому не нужна. А ждали моего исхода, так-то оно лучше будет, спокойнее. И совесть чиста. Баба с возу, кобыле легче. Я выжила, хотя и не сопротивлялась. Пришла врач, осмотрела, прослушала, и снова рентген. На ноги перевязку делают через день. Уже все болячки прошли, хорошо стою на ногах, и голова не кружится. От такого хорошего питания я похорошела, ела досыта. Такого хорошего питания я не видела с рождения. Хлеб настоящий, булки белые, похлебка с мясом, а на второй тарелке всегда 2 лепешки из мяса, и в ней лежали ещё какие-то дудочки, очень вкусные. А каша, кто бы видел! Она на молоке и с маслом. А вот эти дудочки зовутся макароны. Я сегодня узнала. Мне сегодня сказали, что завтра меня выписывают. Мне говорят: кто за тобой придет? Я не знала, что сказать. Ведь за месяц никто не навестил меня. Я сказала, что у меня есть муж, живет на Тростниках, работает в 5-м цехе токарем. Ему позвонили, нашли его. Он сказал: «Еще чего! Барыня какая! Где я возьму денег на такси. Пусть топает пешком». А не сказал: куда мне топать. Вот так мой курорт кончился, отдохнула за все свои прожитые годы. О, Господи! Куда мне деваться? Видимо, не все муки перестрадала. Ну что, надо идти в никуда. Попробую идти опять к тете Нине. Может, посоветует, что мне делать. Ведь я на улице не была целый месяц. Вышла, от снега и ветра у меня закружилась голова, ноги дрожат, но иду. Далековато до тети Нины, да и боюсь её, что скажет?
Красота земли мне душу греет, без тепла зерну не прорастать. Пусть душа, как птица в небе реет. Ей ещё хочется летать. От больницы до Школьного проезда шла полдня. Едва передвигала ноги. Болели, и сильный кашель. Ещё беда, я стала заикаться. Видимо, ещё детские потрясения вернулись. Врач сказал, что все пройдет, всё войдет в норму. Но сказал, если через 2 недели не пройдет кашель и боль в спине, то придешь снова сюда на обследование. Тебе надо беречься от холода. Хорошо питаться, и чтобы домашние не расстраивали. Доктор, я все выполню, как вы скажете. Да, хорошо сказать, подошла к дому, но зайти боюсь. Я понимаю тетку, семья: четверо ютятся в одной комнатушке. На кухне 3 семьи готовят пищу, стирают, сушат белье и все в кухне. ^Господи, помоги, укажи по какому пути мне идти! Господи, за что? Детства не было, юность прошла в военное время, пахали на себе, плуг тащили 7 человек малолеток, полуголодные. Засевали поля, в нашей деревне была одна кобыла, кляча старая, борону таскала и то рады. С полей убираем урожай и отправляемся на лесозаготовки. Там тоже не лучше. Весной на окатку леса.уА я теперь в городе. Мои подруги, наверное, завидуют мне: улизнула из колхоза. Теперь, наверное, в городе, как сыр в масле катается. Да, катаюсь. А я им завидую. Как говорят: умей жить и тогда, когда жизнь становится невозможной. Да, это можно сказать кому-то: мол, проживешь как-нибудь, а вот на самом деле выжить? В чужом городе? Если бы меня выбросили на необитаемый остров, я бы нашла выход, не умерла бы с голода. А вот в городе, среди людей, чужих, сытых, счастливых, как выжить?»»*,:
Очень боялась зайти к тете Нине, но куда деваться? Зашла в комнату, тетя, конечно, не очень любезно встретила меня. «Дина, долго держали тебя в больнице. Что у тебя? Какую болезнь обнаружили?» — «Сказали, что пневмония болезнь называется, легкие простыли. Меня каждый день кололи иглой, очень больно». — «Ну ладно, может у тебя туберкулез? Я завтра узнаю у врачей. Если чего серьезное, то тебе надо найти жилье. Дина, тебе нужно поездить по поселкам, там сдают комнаты. Я думаю, что ты найдешь, припишут, и сразу ищи работу. А я бы тебе посоветовала — уехать домой. Пусть Шурик даст тебе денег на дорогу. Он мне говорил, что звонил в больницу, узнавал: жива ли ты?» Ну, спасибо муженьку за заботу обо мне. А ещё тетя подала мне письмо от мамки. Конечно, они уже прочитали его и заливаются смехом. Во, мама твоя пишет: «Динушка, ты давно уехала, не пишешь, жду от тебя, вышли посылочку, рыбки хочу солененькой. В деревне все хорошо, поклон тебе от всех». О мать моя женщина! Я бы сама рыбину проглотила вместе с чешуей. Тетя Нина дала мне 20 рублей, сказала: питайся отдельно, ищи прописку и работу. «Тетя Нина, у меня валенки совсем развалились, не в чем ходить, а на улице уже сыро». — «Дина, я тебе дам сапоги Геннадия, старенькие, но ещё крепкие, 42-й размер». Я померила: как хорошо, просторные, не жмут. Тетка говорит: ты пойдешь, намотай на ноги газет. Портянок нет. Я пошла по поселкам, на Мончу, на Сопчу, на Тростники, целую неделю ходила, уставала после болезни, куда сила делась. Я бы дома прогрелась на печи и в бане. Мы с теткой ходили в баню, она меня водила, с ума сойти! Надо раздеваться догола при людях, а их там человек 50. Боже, куда я попала! Я сжалась в комок, прикрылась тазом и прижалась к стенке.
Сколько я увидела чудес городских, я не могу наудивляться всему. Кнопку нажми, загорится лампочка, она похожа на пузырек, и такой свет от неё, как от солнца, прямо чудеса. А откроешь кран, вода потечет, забурлит, как в нашей Пеженге. На реку и к колодцу за водой не ходят. Одежду стирают и полощут прямо в избе, умора! А утром встают не по солнцу или как петухи запоют, а такие часы стоят на столе. В нужный час так заверещат, как трактор, и все встают, во как. А радио можно слушать, можно с утра до ночи, начинают: говорит Москва -говорит Москва, я люблю эти слова. О чем-то говорят, я не понимаю, обычно мужик говорит, хорошо спокойно, а баба очень визжит. Я всегда говорю: говори потише, у меня голова болит, это когда в избе никого нет. И потом начинается музыка, песни — просто заслушаешься. О, если V б наши видели, какие кровати стоят в избе из блестящего железа, а на кроватях все белое. А подушки складывают одну на другую, закрывают красивой накидкой с кружевами на каждой кровати, сколь есть. Наверное, на таких кроватях раньше только царь спал.! Вот этих бы горожан да к нам в деревню, положить на под да на ржаную солому и вместо одеяла прикрыть дырявым тяжелком. Тетка смеется надо мной:? «Дина, ты не могла смешней надеть кофту с юбкой?» — «Тетя Нина, да я этот наряд надеваю два раза в год по большим праздникам в Пасху и в Троицу, а здесь по будням ношу, сердце ноет от жалости к своему наряду». А если б видели, как здесь едят! Каждому подай отдельную тарелку, да ещё не одну. А если большая семья, сколько надо тарелок! Господа, да и только. Вот у нас в сенокос все по 30 человек хлебаем из одного таза. В нашей деревне редко у кого тарелки были, чашки, плошки, горшки глиняные, ложки деревянные. Я смотрю в городе — то веник покупают в магазине красивый такой, им бы только сметать со стола, да на полку класть, а они им снег с ног сметают. А ведь лес рядом, наломай березовый веник, так нет.
Здесь идут на работу, во весь наряд одеваются, видимо, друг перед другом хотят показать -вот я как живу в большой роскоши. А по городу весь день люди ходят, видимо, и не работают. По улице тесно ходить, это как у нас в Троицу, только здесь народу в сто раз больше. Вот этот народ да к нам во жниву, враз бы урожай убрали, ну, а я все шастаю, ищу, кто б меня приютил, прописал, но жить не пустят. За прописку надо платить 100 рублей в месяц и везде одна цена, как сговорились. Думаю о деревне, приеду домой, так только председатель колхоза обрадуется, скажет: хорошо, работница прибыла. А люди засмеют, просто со стыда сгорю. Тетя Нина подсказала: «Дина, ты ходишь по улицам, обрати внимание на столбах вешают объявления, ищут няню-домработницу». Я уже прожила у Мотовиловых 14 дней, денег осталось 12 рублей. Ем хлеб с водой. Но бывает, что тетка отправит за картошкой, я захожу между сараев, ем картошку, снегом оботру и грызу. Но не более 3-4 штук, а вдруг недовес обнаружат. А когда пошлют за хлебом, давали только по килограмму в руки, если был довесок, грамм 50, я съедала. А если грамм сто, я не трогала, а есть все время хотелось. У соседей был кот, кормили его на кухне. Бывало, вьшесут ему кашу, макароны, даже сыр. Я хватала у него, бежала в туалет и ела. Бывало, в помойное ведро выкидывали прокислые продукты, все подбирала, если на кухне никого не было. А кот меня невзлюбил, руки у меня все в царапинах. Спрашивают, что у тебя с руками? Говорю: «Хотела кота погладить, а он меня цапнул». «Да вроде он у нас смирный, никого не царапает». — «Наверно, меня невзлюбил, я чужая». Тетя Нина очень много стирала на чужих людей, одного заработка Геннадия не хватало, она подрабатывала. Когда все соседи уходили с кухни, она по всей ночи кипятила белье, стирала, уносила, на чердаке развешивала, сохло, то гладила, а пока жила у них, воду носила с колонки, как могла, помогала ей. Грязную воду носили на помойку, так вот жили. Детей они очень хорошо одевали, над ними тряслись — как бы они не простыли, как бы на прогулке не ушиблись.
Тетя Нина видит, что от меня толку нет, пошла по знакомым, нашла мне работу в семью домработницей. И пошли мы с ней посмотреть, что за семья. На Стахановской улице, второй этаж, семья: муж Николай Игнатьевич, жена Валентина и два мальчика, 4 годика и малышу 8 месяцев. В мою обязанность входит: ходить в магазин за продуктами, готовить обеды, стирать, уборку делать в комнате и на кухне, носить дрова из сарая, топить печки в комнате и на кухне. В квартире ещё одна семья живет, двое — муж с женой. Оклад мой 100 рублей, договорились. «Ну, Дина я пошла, осмотрись и за работу». О, Боже, я боюсь пошевелиться, спросила Валентина, что мне делать. Сходи в подвал, наноси дров в комнату и на кухню, возьми ключ от подвала. Потом я сходила в магазин, продукты закупила и попросила продавца написать, сколько я уплатила, раньше чеков не было, сдачу до копейки отдавала, как меня тетя Нина учила, что меня могут проверить, оставят деньги на полу или на окне, на столе. Смотри, как увидишь, сразу подними и скажи: вы выронили деньги, уберите, да, это было много раз. А однажды я стала делать генеральную уборку. Валя ушла с детьми гулять, я все везде обтираю, шкафы и картины, на стенах висят. Сняла одну картину с гвоздя, и посыпались деньги, много купюр по 25 рублей. Я так напугалась: неужто такой кучей денег решили проверить? Я ка стол сложила, прикрыла газетой. Я уже все вытерла, вымыла, печку затопила, и Валя пришла. Я говорю: Валя, деньги на столе. Она так изумилась, увидев кучу денег, откуда? Да за портретом были, я стала рамку снимать, а они мне на голову посыпались. «Дина, ты не говори Коле про деньги, это наверно, он положил и забыл». Я говорю: «Они там лежали не один год, уж очень на них было пыли много». Забыла сказать, когда пришла к ним, Валя говорит мне: «Ты Дина, наверное, есть хочешь?». — « Я не хочу, вчера ела». — «Вчера?» Она так смеялась, и мужу сказала, смеялись оба. Накормили.
В жизни слабым сейчас не место, только сильным везет в судьбе
Все, что я пишу, это не фантазия, не вымысел. Это жизнь, в которой я варилась, закалялась. В жизни слабым сейчас не место, только сильным везет в судьбе. Из крутого ты теста сделана, так удачи во всем тебе.
Начинаю привыкать к городской жизни. Ну, а как мой муженек? Да как узнал, что я работаю, он туг как тут. «Дина, ты отдавай мне эти 100 рублей. Зачем они тебе, тебя же кормят. А мне не хватает моего заработка. Приезжаю к тете Нине, она меня ругает, но накормит, и ещё я тебя обрадую: мне обещают комнату. Я сказал, что жена у меня в положении». — «Саша, ты что, опупел? В каком таком положении?» Он: «Ну, по-деревенски — с брюхом». — «Пошел ты к черту! Что, меня ветром надуло? Ты просто паразит!» — «Дина, если не врать, то жилья не получишь». — «Ну, ври дальше».
Валентина, хозяйка моя, крепко попивала, гуляла. Военный приезжал каждый четверг, меня отправляли с детьми на 2, иногда на 3 часа. Я ходила с ребятами, на улице замерзнем, идем к тете Нине, часов нет у меня, не знаю сколько времени, вдруг раньше придем. За это Валя дала мне платье, чулки и трико, я радехонька. Муж её старше на 17 лет, очень её любит. Как вышла замуж, так не работает, ещё и прислуга ей нужна. Привезли машину дров, Валя говорит мужу: с работы пошли рабочего, пусть расколет дрова. Я услышала, говорю: что вы, я расколю дрова, я же в лесу выросла, дрова умею колоть. Я даже обрадовалась такой работе. Расколола, конечно, не за один день, у меня и другая работа каждый день: пеленки стирать, щи научилась варить, мясо тушить в духовке, пирожки печь, очень благодарна Вале. Я уже многое умею. Конечно, в первые дни, как я пришла к ним, много ела. Валя видит, у меня аппетит лошадиный, говорит: «Дина, ешь, что хочешь, в магазине бери, что любишь — то и бери». А я как иду дрова колоть или укладывать в подвал, прихвачу рису в карман. Он мне казался, как конфеты, вот и хрумкаю. Бывает, закажут, чего не понравится, ну, ничего, я съем сама.
Луна плыла среди небес, без блеска, без лучей, и рядом был угрюмый лес. Мороз был нестерпим, упали силы, невмочь бороться больше с ним. Зачем пришла я в этот город, где мрак и холод круглый год? Да, мне кажется, неприступный край, отсюда прочь бежит и зверь лесной. Когда стосуточная ночь повиснет над этой стороной. А я все жду ясного назавтра дня. В минуты унынья вспоминаю свою деревеньку. Я мыслью вперед улетаю. Ещё суждено мне много страдать, но я не погибну, я знаю. У меня руки есть и сила. Нет образованья, специальности, да и ума не много. Не знаю русского языка, как мне научится всему и сразу? Пусть мне в меру — радость, в меру грусть, но только счастье будет пусть. И как мне выжить, с ума не сойти в этом мире. Очень захожу вперед, простите меня, читатель. Но сомневаюсь, что мои дети будут читать. Я очень люблю радоваться жизни, и знаю, бывают люди везунчики, все само идет в руки, и счастье сваливается на голову. А мне надо самой до всего достукать. Проходила через какие-то сопротивления, препятствия и преодоления. Но жизни много было испытано у меня. Я считаю, что они мне приумножили жизненный опыт. Я узнала с самых юных лет, что есть по жизни полоса черная и полоса белая. Казалось бы, зачем эта полоса черная, да затем, что если её не будет, я не узнаю никогда, не оценю радость белой полосы. Черная полоса — это накопленье, это мудрость, которая мне помогает выйти к следующей белой. Меня жизнь научила перешагивать через все скверные ситуации, вот так я живу. Где-то споткнешься, а где-то вырулишь, где-то сделаешь прокол, а где облом, а где не досупонишь, а где переборщишь. Хоть и много мной пройдено дорог и так много сделано ошибок.
После болезни я ещё не могу войти в нужную колею. Надо бы сходить к врачу, выписали бы лекарства. Но не могу сказать хозяйке, что я болела. Вернись ко мне, мое здоровье. Когда захочешь, но вернись. Присядь-ка у изголовья и тихо, нежно улыбнись. Вернись ко мне, мое здоровье, на месяц, на день все равно. Присядь ко мне у изголовья, мы так не виделись давно. Коль сердце мое устало, надо заставить его стучать.
Но теперь у меня дума за думой, и две впереди. Что же дальше будет со мною, не буду же я домработницей постоянно. И порою слезы горькие лила. Но, отболев душою, улыбалась, и снова солнцу радуясь, жила. И опять хорошая погода, за окном, и в доме, и в душе. Хозяйка моя Валя собирается ехать в отпуск на родину, в Сибирь, и меня просит с ней ехать. Одной с детьми трудно ехать с пересадками. Мне как-то страшно стало, не знаю, что делать. Если уеду, что мне мамка скажет, я её боюсь. Надо поговорить с теткой, что она посоветует. Вот ещё незадача, я не хозяйка своей судьбы. Пошла к тетке: «Ой, Дина, ты долго не приходила ко мне, сколько новостей скажу тебе. Шурику дали комнату на Большой Сопче в поселке. Комната большая, 20 м, и ещё Шурку забирают в армию». — «Господи, что я скажу хозяйке, она так надеялась на меня». — «А вот то и скажешь: до свидания». Ну, все уладили с хозяйкой, муж повезет, дали ему 10 дней в счет отпуска. Впоследствии я с этой семьёй приятелями были. Валя делилась со мной своими радостью и горем. Друг её военный изменил ей, женился, она очень плакала. Ну, а мы комнату закрыли, собираем Шурика в солдаты. Он ночует также в общежитии, а я у тети и дяди. Наконец, отправили Шурку, слава Богу, я свободно дышу. Служил здесь в Мурманской области, поселок Кильдинстрой.
И опять вспомнила свою деревеньку, снится по ночам. В нашем краю жили по церковному календарю. После Ильина дня 2 августа старые люди не советовали есть землянику, иначе будешь дремать целый год. С этого дня занимались устройством новых постелей. Крестьяне вытряхивали из тюфяков старую солому — набивали свежей, только что измолоченной ржи. Считалось, что на ильинской соломе самый здоровый сон. А вот день Святого мученика Трофима, 5 августа, в народе называли бессоником. В это время шла пора усиленных работ страда. Хорошему хозяину день мал. В страду одна забота — не стояла бы работа. Если идет работа, спать неохота. Жать — не дремать, одной рукой жни, другой — сей, пораньше, да поскорей. Сей рожь, да выкашивай луг. Шапка упадет — поднять недосуг. И себе приговаривали: долго спать — с долгами вставать. 18 сентября повсеместно крестьяне выгоняли из деревень Кумоху, по народным представленьям — подругу Лешего. Поскольку считалось, что все болезни, и особенно бессонница, — от неё. Хотя уже 21-й век, но в народе все ещё ходит Кумоха: людей знобит, тело мучит, кости крушит, жилы тянет, знобит. От Кумохи защищались. В великоденный четверг выходили из дома ночью всей семьей и 3 раза обходили дом. Потом обсыпали себя ячневой крупой и кланялись на все четыре стороны, говоря: прости, сторона, мать-сыра земля. Вот тебе Кумоха. Снова кланялись на все четыре стороны и шли в дом, уверенные, что их земля защитит. В доме вставала вся семья на колени перед иконами и читала молитвы. Надеялись, Кумохе не бывать в этой избе. Я все это прошла, хорошо помню эту Кумоху.
Теперь что делать, с чего начать. Побежала в поселок, осваивать свою комнату, со своим чемоданчиком. Подхожу, на дверях моей комнаты повешен замок, радом с моим замком и опечатана сургучом с запиской явиться в ЖКО. О, Боже, это ещё что такое. Прихожу, мне говорят: мы вас поселим в общежитие. Это комната для одной большая. Мы поселим в неё большую семью. Куда бежать, защиты искать. Я им говорю, у меня скоро будет ребенок, я не пойду в общежитие. Мне говорят, тогда поселим в барак, где живут матери одиночки с детьми. Я уже слышала, этот барак называют сторублевым. Там всем матерям государство платит по 100 рублей на ребенка..Там девушки легкого поведения живут. Я разыскала Комаровых, они жили на квартире, Михаил и Надя. Объяснила ситуацию, но помочь не могут, но меня пустили пожить у них. Я побежала в город, потому что денег нет на автобус, тут недалеко от поселка 5 км. Это по-моему, по-деревенски, ерунда — пробежать 5 км. Рассказала Геннадию Аркадьевичу свое горе. «Дина не плачь, пойдем к прокурору, все будет хорошо». На улице уже тепло. А я все хлюбаю в кирзовых сапогах. Ноги устают, лучше бы в лаптях ходить, то ли дело — легко. Но к прокурору не так-то просто попасть. То не приемный день, то он в командировке. А время идет, я не могу устроиться на работу без прописки. Наконец попали, дядя Гена объяснил ситуацию. Прокурор выслушал, говорит: ордер на комнату есть, иди в ЖКО и скажи домоуправу, если вам нужен замок, то снимите с моей двери или я его собью обухом и расписался на ордере. Я от счастья заулыбалась, пришла в ЖКО, подала записку, они все рты открыли: как это так, прокурор визу поставил? Сразу же взяли мой паспорт на прописку и, молча, пошли со мной, сняли замок. Комната большая, хоть в футбол гоняй, я поставила свой чемоданчик в угол, вот все мое богатство. Села на него, отплакалась от души. С чего начать? Комаровы обещают пожить на их иждивение.
Ну, вот и начинается моя жизнь с нуля. Но главное для жизни — это крыша над головой. И опять иду к Мотовиловым: помогите, чем можете. Прежде хоть ложку, кастрюлю, ведро или хоть тряпку пол помыть. Тетя Нина дала 2 ложки, их приятельница дала ведерко железное и две тарелки, два стакана, это уже что-то. Комаровы на новоселье принесли кастрюлю алюминиевую и от магазина ящик притащили, он у меня вместо стола. Надя говорит: знаешь, я шла от Кумужья до Тростников, там свалка, мусор. Там можно найти все. Мы с ней принесли кровать, железная, ржавая, но крепкая. Три таза, хотя дырявые, не беда, заткну, пол мыть сойдет. Ещё сходили на лесопилку, набили матрас стружкой. Ну, пока что я рада всему понемногу. Теперь устраиваюсь на работу грузчиком на рудник, прохожу медкомиссию. Очень боюсь, как я буду разговаривать, будут надо мной смеяться. Мне надо сначала слушать и учиться говорить. Написала Вене письмо, просила приехать, если возможно, но не надеялась на его приезд. Скажет: вот ещё, как эта дура попала в Мончегорск? Устроилась, работаю, работа такая: возим для рудника взрывчатку, запал очный шнур и бревна для крепленья в шахте. Конечно, работа нелегкая. Но я рада и такой работе, взрывчатка в деревянных ящиках по 110 кг. Это надо взять ящик со склада на спину, нести на машину. Один человек укладывает, трое носим. Идешь, бывало, спина трещит от тяжести, так же и с машины несешь в склад на руднике уложить на стеллажи. Шнур полегче, 70 кг. Бревна грузить легче. Отработала уже полтора месяца. За месяц получила получку 175 рублей. Так рада, не знаю, чего купить, обуви нет, зимней одежды нет. Пошла покупать зимние ботинки, тогда ещё не было сапог в магазинах. Прошу продавца: продайте мне ботинки теплые. Какой размер? Я не знаю, у меня нет размера, а ты в чем ходишь? Да вот в сапогах кирзовых. Купила ботинки, первый раз в жизни, в 22 года, надела обувь по размеру, по сезону, узнала, что мой размер 37-й, носить жалко. Мне на работе выдали спецовку: куртку, брюки, ботинки кирзовые, рукавицы. Оделась как хорошо. В таком наряде хоть на Троицу иди, до чего баско. Купила ситцу, два метра, сшила юбку. Сначала купила набор иголок, ниток, ножницы, ножик, зеркальце, а как же без него. И ещё купила демисезонное пальто за 48 руб. Оделась, обулась, пошла к Мотовиловым -показаться, похвастаться. Тетя Нина говорит: ты теперь похожа на городскую барышню. Но вот с говорком худо, не могу привыкнуть говорить по-городскому. Говорю: «Тетя Нина, седни такая перевала идет синяя, снегу опять нападет». — «Дина, это не перевала, а туча. И не говори «опеть», а «опять», поняла?» — «Да, спасибо, тебе тетя Нина за все». Сегодня у меня самый счастливый день. Приехал Веня. Как мы обрадовались друг другу! Ухватились оба, плакали и смеялись, говорили до рассвета. Первый раз без мамки, не помешает поговорить на равных, не скажет: ты, Венюшка, не говори с этой дурой. Сегодня воскресенье, у меня выходной и у Вени. Он живет и работает в поселке Дровяное. Учится в вечерней школе, хочет поступать в военно морское училище в Ленинграде. Посмотрел, как я живу, что все хорошо, комната обитаемая, мебель есть. Смеется, что ящики вместо стола и стулья. Постепенно все будет. Только вот печка топится с коридора, это почти улица, дров надо много, да и варить обед неудобно. Соседи живут давно., они печки переделали, в комнатах топят. После Веня часто ко мне приезжал, ему тоже скучно, уехал в 14 лет из дома. Каждое лето ездит домой. Этим летом ездил. Говорит мамка, что худо без Динки. Надо дрова заготовить, воду носить и в огороде сажать, убирать всё одной. И на работу в Лукино ходим, жнем, косим. «Венька, а почему она
Жизнь идет спокойно, уже год прошел, как я работаю в шахте, меня очень попросили, шахтеров не хватает. Многих шахтеров выводят из шахты по болезням, то силикоз, то туберкулез, а заменить некому. Вновь не принимают, идет сокращение по комбинату. Вот меня и сагитировали, что я буду зарплату получать вдвое больше, чем на поверхности, отпуск 45 рабочих дней. Я очень боялась под землю спускаться, но увидела, что много девчат работают. Спускается клеть большая, по 8-10 человек встают. Я первый раз спускалась, у меня уши заложило, уж очень быстро клеть идет. А какая спецодежда! Пока все напялишь на себя, устаешь. Это брюки х/б и куртка резиновая, широкий ремень, подкасник теплый, каска, на каску одеть аккумулятор, на ремень повесить фляжку с водой. На смену придем, получим по жетону из сушилки спец. в аккумуляторной, аккумулятор, в кипятилке флягу и все, стоишь в очереди. Приходим на рудник за час до работы. Забыла, выдаются ещё на ноги чуни клееные из толстой резины, клеят тут же, в магазинах не было обуви для шахтеров.
В шахте линия узкоколейка, где мотовоз подвозит породу — дробленый камень в маленьких вагончиках назывался, калоша емкость 500 кг, а есть вагончики по 1200 человек. Называлась ВЖ. Эти вагоны возят только руду на рудоразборку. В шахте сверху льет со стен, и под ногами вода. От взрывов пыль, она намокает и льется везде. Заворот руки так пропитается этой водой каменной, невозможно смыть, она в кожу лезет. Соревнуемся с другой шахтой. Норма — выдать на гора 180 вагонов, а так как мы все комсомольцы, даем по 250 вагонов. Нас хвалят, дают премию по 50 рублей. Мы из последних сил стараемся идти впереди всех.
Работа наша в 3 смены. Выходной у меня в четверг. Вот в этот самый день комсомольское собрание. Со всего рудника — это 4 шахты — полный зал на первой шахте, это все управление рудника, заканчивали, сколько процентов выработала каждая шахта. Нашу шахту 4-ю расхвалили, что самый высокий процент. Я сижу, слушаю и не слушаю, какое мне дело до всего этого, что говорят. И вдруг слышу: за достигнутые успехи награждается от Комитета комсомола Баженова Дина Васильевна бесплатной путевкой в г.Гагры Грузинской ССР. Я так напугалась, чуть в обморок не упала. Не могу встать, мне принесли на место, где я сидела. Я расплакалась — не надо мне путевки, я боюсь одна ехать, нигде не бывала. Господи, ну почему именно мне эта путевка дана? Лучше бы я в шахте поработала по две смены. С кем посоветоваться? Веня опять уехал в деревню. Написал мне, что Лида приехали всей семьей. Мне бы тоже хотелось бы поехать в деревню, но не могу. У меня ещё не прошла обида на мамку, опять будет оскорблять, унижать, перед Лидой на цыпочках ходить. У меня теперь задача похлеще — как я поеду в Грузию, да ещё в Москве пересадка, ужас. И опять к Мотовиловым иду. «Тетя Нина, защити, помоги сдать путевку, а то пропадет, а с меня высчитают за неё». Тетя Нина мне говорит: «Что ты, дуреха, надо радоваться. Если бы мне дали путевку, я бы в Америку поехала, а ты должна гордиться, заработала своим трудом, потом давай, не плачь, язык до Киева доведет, поняла? В Москве этой же билет закомпостируют и поехала дальше, ложись на полку и плюй в потолок». — «Тетя Нина, а зачем плевать-то?» — «О, Боже, да это так, к слову говорится, чтобы ты не боялась, ты сильная, все будет хорошо, Дина, поедешь обратно, заедешь к нам, мы опять едем в Москву, отдыхать».
Тетя Нина дала маленький чемоданчик, проконсультировала меня: на остановках не выходить, обеды носят — не бери, очень дорого, в туалет пойдешь — закрывайся, деньги зашей в трусы и немного в кошелек положи, чай носят, бери и береги чемоданчик, а то упрут. Туфли бери к себе на вторую полку, поставь к стенке, иначе босиком пойдешь. О, Боже, страсти-то какие! «Дина, смотри, приедешь на место, ни с кем не разговаривай. Это не Россия, грузины нахалы, схватят, наиздеваются и убьют». Ой, не поеду, к черту и с путевкой. «Дина, ты поедешь с комбината не одна, ведь одну путевку не дают, так что не бойся».
Ну, все уже, еду в поезде в плацкартном вагоне, вторая полка. Удивительно, что люди сели такие же, как и я, разговаривают: кто куда едет, все тихо и никакого галдежа. Когда я ехала из Вологды, сравненья нет. Лежу на полке, гляжу в окно, как все красиво, на душе радостно. Едем уже вторые сутки, скоро Москва. В вагоне появилась женщина, на ней висит вроде ящичка и кричит во весь вагон: кому мороженое — горячее, свежее, налетай. Очень интересно, что же это такое мороженое горячее? Смотрю, люди кошельки вынимают, покупают и лижут, и видно, что парок от стаканчика идет. А почему и мне не купить за 12 копеек горяченького поесть. Взяла, откусила. О-о, это лёд, я со своим стаканчиком догнала продавщицу: женщина, ты что меня обманула? Почему стаканчик мерзлый, а не горячий? Если я деревенская, так можно смеяться надо мной? Смотрю, женщина и так смеется, говорит, ты что, первый раз видишь морожено? Да первый. Но почему вы сказали горячее? Так это так, шутка-фантазия. Я извинилась, мороженое отдала ей. Сижу, мне так стыдно, вот дура! Лучше бы выбросить молча, так нет. Объявили: подъезжаем к столице нашей Родины — Москве.
Забегая вперед, а вдруг не успею.
Сердце мое так поспешно стучит, меня подгоняет и смерть где-то рядом, как немая, таится, молчит. Время неуловимо. Годы смывают воспоминания о событиях даже значительных и важных.
Долгожданные встречи с родственниками, память о них бережно храню, как драгоценные осколки жизни. И бессонные ночи — они вдруг снова и снова возникают из глубины прожитых лет. Теперь у меня никого нет, с кем бы я поделилась горем и радостью. Сестра умерла в 50 лет, хотя она меня не очень и жаловала. Она считала меня ниже на голову, высокомерная, смотрела на меня свысока. Веня, брат, был для меня братом, другом, Богом. Но почему он ушёл так рано, вперед меня? Без него у меня жизнь померкла, жить не хочется. Мы не могли друг без друга прожить. Ну, бывало, конечно, он гордился своей учености, но я тоже, бывало, скажу: «Венька, спустись на землю, посмотри, ты ученый, привык командовать, а вот гражданской жизни ты не знаешь. Я не грамотная, не изучала книг Маркса и Ленина. Я по жизни шла физическим трудом, все горбом своим тянула. Ты жил на всем готовом и не знаешь — сколько ты за год съедаешь хлеба, овощей, фруктов. Спроси меня, я скажу до грамма. Знаю, как поле спахать, засеять. Как вырастить коня, корову, ты в это никогда не вникал. Так-то вот, не гордись собой, я не хуже тебя». Конечно, сердился на меня, а подумает и скажет: «А ведь, Динка, ты права, я напишу о тебе книгу». И не успел, мне приходится писать за тебя.
В последнее время я говорю: «Венька, я наверно, уеду в Мончегорск». Он говорит: «Ты спятила, Динка, тебя на даче напекло солнцем? Это отойдет. Вот ты думаешь, как я буду один, Веры нет и ты уедешь». «Венька, у тебя Аня и Катя, замечательные девчонки, ты только чуть-чуть уделяй им вниманья, ты их и не видишь: работа, дача, Вера, дети тебя не видят, я исправлюсь, принимаю во внимание. Венька, ты меня извини, что лезу не в свои ворота. Я хочу, чтоб всем было хорошо». Вот так мы жили, спорили, мирились.
Хорошо иметь домик в деревне. Так говорят это, кто не жил в деревне в северных районах, а бывал на юге и видел как все красиво: дома частные, кирпичные, сады, цветы, все для отдыха. Это тебе отдых, а хозяевам работа от зари до зари, иначе дорога на рынок, с крохотной пенсией. Извини, я хотела не о том писать. А о своем доме, что нужно, что есть, что было. Хорошо иметь домик в деревне, да иметь к нему полон двор скота. Корову обязательно, а как же без густой сметаны и топленого молока, и коровушке нужно заготовить сена 30 центнеров. Это на 7 месяцев кормления. Это в моей Вологодчине, а на югах — меньше затрат с коровами. Выкормить до года поросенка (а как же без мяса в деревне!) и ещё нужно иметь пару овец — это валенки, это мясо. Ну, и куры нужны, этак штук 5-10, вот это хозяин в доме.
В избе есть матица, это на которой лежит потолок, в эту матицу ввинчивается крепкое большое кольцо, вырубают березку, небольшую, стройную, гибкую, обтешут и вдевают в это кольцо, и вот получилось качильно, привязывают зыбку, и качай младенца первенца и внуков-правнуков, и пра-пра, пока стоит дом до 150 лет.
Так вот в доме. Печь русская маленькая — это зимой топить для тепла. Большую печь топим — готовить обеды, выпекать хлеб. У печи утварь, это греблуха выгребать уголья из печи, помело, выметать из печи золу, чтоб печь пироги. Лопата широкая, длинная, сажать в печь хлеб и пироги, ухват 3-4 штуки, ставить в печь чугуны, горшки, плошки, кринки. Сковородник 1-2 штуки, потому что сковорода большая и маленькая. У печи есть припечек, он сбоку, на него ставят тесто для броженья с вечера до утра. А с торца печи, у самой стены, висит жердочка, на ней сушим онучи, лапти, рукавицы и прочее. У печи шесток, кожух, дымоход. В кожухе сделано отверстие для самоварной трубы. На печь лезть — сделан приступок (лесенка), а над окнами по всей стене полка широкая. На нее ставится всякая мелочь: пестерюшки с иголками, нитками, ножницы. Все в корзиночках из коры, елки и бересты. А в кути стоит сундук с одеждой. Запирается на замок. Там хранится все добро: холсты, утиральники и праздничные одежды. От входной двери от самой печи сделаны полати наравне с печью из крепких досок. Одни концы досок вделаны в стену, другие лежат на воронце, это толстое бревно строганое. Полати очень удобно, зимой спят кто на печи, кто на полатях. А под полатями место хозяину лапти плести, валенки подшить, хомуты починить, кто во что горазд. А где божница, это девушки шьют, вышивают, готовятся к свадьбе, поют песни, ну, и плачут.
Немного отклонюсь от суеты житейской. Не хлебом единым сыт человек. Молодость берет свое. Хоть мы были полуголодные, полураздетые, работа тяжелей некуда. Мужики немногие пришли с фронта, все калеки, то руки нет, то ноги или контуженные, все больные, их не поставишь за плуг. Вот мы, малолетки, тянули колхоз. Приходим с пашни, еле ноги тащим, на лаптях и на онучах глина прилипла, еле веревки развяжешь, сбросишь с ног, а пыли на всем теле, окатишь себя холодной водой с головы до ног — и вся усталость прошла. Обе деревеньки собираемся вместе, а нас детей много в каждой избе. Это только у нас в семье было трое, а в других семьях у кого шестеро, девятеро. Ведь раньше не было такого, чтобы аборт сделать, вот и строчили на всю катушку. Обуваем выходные лапти, белые онучи, ну, и весь наряд, у кого что есть. У немногих отцы приходили с фронта, привозили помногу вещей немецких, вот их семьи одевались, хвастались, форсили перед нами, голытьбой, мы все завидовали им. Мы надеялись: когда-нибудь и мы оденемся, не хуже их будем, да будет так. Собираемся у качели, пляшем, частушки поем, гармонист Толик играет, замучаем его, устает. Но не унывали, берем ведро железное и железкой по ведру скоблим в такт частушкам и пляске и еще припевали: «Елиферко да Кирюха, отвори да затвори». Подолгу дурачимся. Бригадир каждый вечер нас разгонял, прибежит, скажет: ребятишки, давай идите домой поспите, скоро в поле выезжать, а вы сонные как будете за плугом ходить? А у нас часов нет. Как заря начинает алеть, значит, пора вставать. Летом заря с зарей сходятся, одна заря еще не потухла, другая уже загорается. Хотя вам все это читать неинтересно, но я напишу, какие мы частушки раньше пели. Прочитай, это было в 40-х годах, лет этак 65 назад.
Частушки
1. Мы с подружкой боевые, боевых-то только две, Мы нигде не подкачаем, ни в работе, ни в гульбе.
2. Нас четыре девушки, куда девали пятую,
Её наверно, записали в бабью жизнь проклятую.
3. Скоро-скоро Троица, земля цветом покроется, Скоро милого увижу, сердце успокоится.
4. Ой, подружка дорогая, вот и праздничек пришел, Издали милого видела, ко мне не подошёл.
5. Мой миленочек лукав, меня дернул за рукав. А я лукавнее его и не взглянула на него.
6. Что ты, милый, редко ходишь, на неделе восемь раз, Если дальняя дорожка, приходи, живи у нас.
7. Полюбила лейтенанта, оказался рядовой,
Он довез меня до Вологды, скомандовал: «Домой!»
8. Я сидела в горенке, плакала о Толеньке, Плакала, томилася, чуть не подавилася.
9. По тропиночке иду, зеленеет травушка, Вся брюшина изболела по тебе, сударушка.
10. Ох ты, милка моя, дебилка моя,
Тебя я полюбил, потому что сам дебил.
11. Ты дроби-дроби, товарищ, дроби выколачивай, Ко своей жене иди, к моей не приворачивай.
Это песни колхозные, военное время после революции
1. Спасибо Сталину мы скажем, по коровушке оставил. Надо Рыкова просить, чтобы масло не носить.
2. Принесли повестку в суд, я иду трясуся,
Присудили сто яиц, а я не несуся.
3. Ох, война-война, что же ты наделала, Семерых детей у мамы сиротами сделала.
4. Вот и кончилась война, прошли бои великие, Хоть бы раненных-то дролечек домой отправила.
5. Ты германец-оборванец отступись-ка воевать. Отпусти ребят жениться, девок некуда девать.
6. Нет ни папы, нет ни мамы, от кого родилася? Я от белые березы клубом откатилася.
7. Меня никто не пожалеет, ни ухват, ни помело, Пожалел бы сковородник, с ним поругалася недавно.
8. Я калоши не ношу, берегу их к лету, Потому и не ношу, потому что у меня их нету.
9. Как пойду я на гулянку, выпью ковш мадеры. То лй дома ночевать, то ли у Матрены.
Я думаю, тебе не интересно, лучше не читай.
1. Идет парень по деревне и играет в гармозень На нем синяя рубаха, по пузене ремезень.
2. У меня залетка был, звали его Витею,
А я девушка была не по его развитию.
3. Эх, Володя, чей ты сын, рубаха с воротом косым, Надо ворот перешить, Володю надо присушить.
4. На горе стоит береза, а я думала: Сережа, Я с березой обнялась и слезами залилась.
5. Повяжу я полушалок беленький в нахмурочку, Не ругайте меня дома, что люблю я Шурочку.
6. Меня дома все ругают и бранят за Мишу, Ничего не говорю, будто и не слышу.
7. Я любила Сашку, кудри под фуражку, А теперя Тольку, волоса под польку.
8. У меня миленка два, оба и Владимира, Соскочу, ухват схвачу, не будет ни единого.
9. Мене милый изменил, не называет куколка, Посмотрел бы на себя, ты какая хрюкалка.
10. Мене милый изменил, я узнала перед ним, И что я, дура, падаю перед такою гадою.
11. Меня милый изменил, я и не опешала,
А догнала в переулке, тумаков навешала.
12. Меня милый изменил, я сказала: «Ох,ты! У тебя одна рубаха, да и то из кофты».
13. Меня милый изменил, я сказала: «Ох, ты гад,
У тебя глаз глядит на Вологду, другой на Ленинград».
14. У меня миленочек Ваня-макареночек,
А у меня милашечка Матюгина Палашечка.
15. Поиграй повеселее, пошла девушка плясать, Роста нет, красы не надо, бойчины пошла казать.
16. Мне не надо чики-брики на высоких каблуках, Лишь бы личико умыто, хорошо и в лапотках.
17. Эх, лапти мои, носки выплетены.
Не хотела я плясать, сами выскочили.
18. Шила милому кисет, вышла рукавица, Меня милый похвалил: «Ну, и мастерица!»
19. Меня дома то ругают, мало роблю, много ем, Сшейте белую котомочку, уйду, не надоем.
20. Супостаточка косая, ноги косолапые,
Не босая бы ходила, лапти дыроватые. И так далее.
21. Меня милый не целует, говорит: потом-потом, Я иду, а он на печке тренируется с котом.
Улыбнись.
Как я ездила в Гагры
Приехали, поезд остановился, я так боюсь, сердце выскочит из груди. Вышла с поезда, а народу столько, меня толкают, я не знаю в какую сторону идти. Я встану, меня заворачивают в другую сторону. Я со страха забыла, куда мне нужно ехать. Долго крутила по перрону, наконец, вырулила на площадь, народу поуменынилось. Смотрю по сторонам, вот она, Москва, какая. Мне не у кого спросить — как мне попасть на поезд на Гагры. Люди все бегут, спешат, им дела нет до меня, спрошу только, и говорят: иди в справочное, а куда, где оно, они тоже не знают. Села на диван, расплакалась: поеду-ка обратно, побежала опять на перрон. Смотрю, поезд стоит, слава Богу, уеду. Говорю: мне до Мончегорска можно доехать? Где же такой город или деревня? Этот поезд идет на Воркуту. Иди на вокзал, там тебе все расскажут. Зачем это? Я, дура, поехала, вот теперь ищи поезд на Гагры. Нашла вокзал, о Боже! Народу битком с чемоданами, с мешками, с корзинами. А люди невиданные такие, черные, а зубы белые, есть и немного черные. Все в разных одеждах, а на ногах не то сапоги, не то валенки мохнатые, лучше бы в лаптях ходили, если нечего одеть. Пока я осматривала белых, черных, желтых, отвлеклась, надо найти кассу. Смотрю, а там стоит милиционер, и показалось мне, что он посмотрел на меня. О ужас, вот он меня заграбастает и посадит в тюрьму. Я слыхала еще в деревне, что в Москве схватят и посадят ни за что. Что мне делать? Я спряталась за столб, который стоит спереди вокзала, всё выгляну, а милиционер не думает уходить, а прогуливается взад и вперед. Он заметил меня, что я все выглядываю на него, и идет прямо на меня. У меня от страха ноги не пошли, я вся дрожу. Он подошел, улыбается, говорит: «Вы куда, девушка, едете, у вас документы есть?» — «Да вот путевка в Дом отдыха». — «Нет, покажите паспорт». — «Мне не велено никому не давать паспорт, а то не отдадут». — «Кто это так сказал?» — «Да все говорят. Милиция, отпусти меня». — «Да ты что, дивчина, первый раз в Москве?» — «Да, первый. Если можешь, помоги мне найти кассу, мне надо билет записать на Гагры». Он подвел до кассы. А там такая толпа народа, крайнего не нашла. Зря боялась милиции, он не страшный. Я опять к нему: «Милиция, помоги билет закомпостировать». Он мне: «Куда обращаешься? Обращайся так: «Товарищ милиционер, разреши обратиться к вам. Извините меня, я недавно из деревни, не знаю городских порядков, научусь». Он взял мои документы, сказал: «Стой на месте. Я постараюсь достать билет». Наконец, я уже в вагоне, поезд «Москва-Адлер», а там электричкой до Гагры. Господи, сколько нервов надо, чтоб доехать.
Наконец, добралась до своего дома отдыха им. Сталина, более четырех суток ехала, устала, немытая, неспаная, все берегла свой чемоданчик. В нем платье, кофта в цветах, носочки беленькие тонкие — вот это весь мой гардероб. Когда приехала в Гагры, у поезда ждал автобус, развозил по санаториям и домам отдыха. Нас много набралось отдыхающих. Я обрадовалась, что теперь все страхи позади, но не тут-то было. Санатории в разных местах, автобус и едет то на гору, то под гору. Смотрю: я уже одна осталась в автобусе. Почему не высадили меня? Шофер говорит: «Твоя дома отдыха далеко, сядь и сыди, доедешь». Боже мой, он говорить не умеет, вот страх-то. Я свой чемоданчик держу под мышкой, подхожу к шоферу. Говорю: «Куда ты меня везешь? Смотри, у меня сила колхозная, справлюсь я с тобой». Остановил автобус и говорит: «Ты мине надоел, выходы, вот твоя дом отдыха». А мне так стыдно. Старика ругала, он, наверное, американец, говорит не по-русски. Я думала, все это Россия, и все говорят по-русски. Нас поселили в комнату троих, одна девушка из Минской области, из колхоза, и девушка из Украины, из Харьковской области, тоже из колхоза. Хорошенькие такие, пышненькие, упитанные. Хохлушка — Алеся, белоруска — Василья. Я удивилась, как так: Васькой зовут. Хохлушка такая тараторка, не поймешь, что говорит. А Вася, эту понимаю, так я знакомилась. Меня называли Дыня. Питание хорошее в доме отдыха. Да и лечение мне назначили — циркулярный душ, кое-какие микстуры от нервов. Когда я пришла на циркулярный, там женщина, которая делает процедуры, мне крикнула: «Девушка, у вас тоже Шарко? Положи карточку на окно, раздевайся и вставай в угол». Боже, надо раздеться догола. Встала в угол и на меня направили такую струю водяную, я не могу увернуться. Эта струя бьет как палкой по спине, животу, по ногам. От боли, я думала, упаду. Я заплакала от боли. Медсестра испугалась, посмотрела мою карточку, там написано — циркулярный душ. Говорит: «Почему ты мне не дала карточку сразу?» — «Да ты сказала мне: положи карточку на окно». Наутро я не могла встать, синие полосы в клеточку по всему телу. Лечили от синяков, мазали и поили.
Мончегорск, озеро Имандра.
Луна выходит на ночное небо. По озеру вечерний ветер бродит.
Есть Бог, есть Мир, они живут в веках. А жизнь людей мгновенна и убога.
Но всё в себе вмещает человек, который любит Мир и верит в Бога.
Деревня моя
И опять я улетаю в деревню, она никак не забывается. Когда я приезжаю в деревню Дресвяново, подхожу к дому, в котором наша мамка родилась и жила в нем 22 года. Дом также стоит пятистенок. Теперь он покрашен и похож на дворец. Я редко, но приезжаю, когда подхожу к дому, у меня сердце трепещет от радости и слезы заливают глаза. Если смотреть на домик издалека, то он, трижды перестроенный, покажется неказистым. Помнит он былые древние года. Предки наши в доме славном этом жили. Божие заветы помнили всегда. Светлые их лики вижу сквозь столетия. Чувствую поддержку через толщу лет. Вам спасибо, милые, за добро, сердечность. Ваши души мудрые излучают свет. Домик неказистый, трижды перестроенный, о далеких предках память он хранит. Выстоял в невзгодах, закалился в горе, знает он немало, знает и молчит. Домику этому далеко за двести лет. Я молюсь на него, для меня он Храм Божий. Есть что вспомнить, есть что забыть, но не забывается.
В следующем опишу имена наших предков. Кто жил в доме этом и кто живет сегодня в нем. Память моя скудеет с каждым днем. Надо успеть писать, что ещё помнится. Пролетают в спешке годы.
Пишу, что слышала, о нашем пра-пра. О далеком предке, который жил примерно в 17-м веке. Звали его Авинир, отчество неизвестно. Фамилия его была Петровский, был дворянского сословия, родом из Варшавской губернии, вот так вот. Был военным, служил у князя Суворова. С переменой жизни фамилия его укоротилась, стал Петров Авинир, у него было четыре сына. Трое погибли, служили Отечеству. Остался один сын Марк Авинирович. У Марка сын Иван Маркович, у Ивана сын Асаф Иванович, у Асафа два сына: Михаил и Василий -погиб в эту войну. У Василья сын Вениамин, у Вениамина сын Валерий, его сын Николай сегодня живет в этом доме в деревне Дресвяново восьмое поколение живет в этом доме по материнской линии.
А теперь в деревнях на полях лес растет. Край ты мой заброшенный. Край ты мой пустырь. Сенокос некошенный, а поля не паханы. Лес да ковыль. Теперь грибы растут на полях. Сторона моя сторонка, горевая полоса. Я, наверно, закончу свою писанину, чего-то захандрила. Всему свое время, мне тоже пришло время. Не хочу быть обузой для детей, смерть должна быть мгновенной.
Вздрогнула я от стука в дверь, я метнулась, скорей за порог, может, дочка прислала открытку или внуки вспомнили о бабке. Не надеюсь, а возможно, все слетятся очень скоро, дети и внуки в опустевший материн дом. Только матери не будет на свете, а поймут они это с трудом.
И опять моя деревня. Не дает мне забыться. Опишу, как наш дедушка рассказывал, что он сам слыхал. К нам приходила вся деревня слушать. У нас не было ни газет, ни радио. Были рады, кто зайдет к нам в деревеньку, расскажет колхозные новости и районные. Но нас, ребятню, не очень-то интересовало, что, где, когда, нам подай сказки-рассказы. Дедушка развлекал нас, до полуночи слушали, он рассказывал не отрываясь от работы, лапти плел или оборы вил к лаптям. Теперь эти побасенки никому не интересны. Скажет: «Ну, дети, слушайте. Жили-были старик со старухой, у них были 3 дочери на выданье. Но одно плохо: дочери картавили, не могли выговорить букву «Л». И в один прекрасный день подъехали их сватать бравые молодцы. Родители запретили дочерям разговаривать при женихах. Один из женихов закурил и стряхнул пепел прямо на половик, то загорел. Одна из дочерей не вытерпела и говорит: «Каварер, каварер, поровик-от прогорер». Вторая дочь: «Ты б сидера да морчара, кори деро не твое». Третья: «Срава Богу, не проморвирась хоть я». Женихи уехали
Случай. Дедушка Пармен и наш отец ходили по дальним деревням, катали катаники. К одним пришли уставшие. Попросили напиться водички. Дома были одни дети. Старший говорит: «У нас квасу много, я вам налью. Наши рады, что напились квасу, но им дети говорят: «Пейте-пейте, у нас его много». Спросили: «А вы пьете квас сами?» — «Не-е, не пьем, в квасу-то мыша утонула». Ну тут братья начали плеваться, спросили: «Где можно руки помыть?» — «Да там рукомойник». Наши братья умылись, спрашивают: «А чем вы вытираетесь?» — «Так ведь мама подолом, тятя рукавом, а мы так у печки обсыхаем».
Следующее. Девушка приходит к фотографу: «Дяденька, отделай меня как Параньку Яшкину, чтобы видно были полусапожки».
Сталин Троцкому сказал: «Пойдем-ка на базар. Купим лошадь карюю, накормим пролетарию».
Время идет, я уже почти привыкла к городской жизни. Научилась говорить. Работаю все в шахте. Мне дали комнату в другом поселке, Малое Кумужье. Рада, ближе ходить на работу. Приезжал Веня, пошел погулять на гору, где работает рудник. Мончегорск в те годы был засекреченный. И везде были наблюдатели вокруг рудника и комбината «Североникель». Ну, а что Веня, у него на плече висит бинокль и фотоаппарат. Меня срочно вывезли из шахты и на милицейской машине повезли в милицию, увидела Веню, сидит испуганный. Мне показалось, что, наверно, его били. У меня слезы градом, спрашиваю: что случилось? Мне говорят: «Сначала ты нам скажи — это твой родной брат?» — «Да, брат». — «Где живет и зачем приехал и почему фотографировал объекты запрещенные? Кто у вас есть за границей? Где воевал ваш отец?» И конца нет этой ерунде. Чего только не спрашивали. Я так устала, что от страха слезы кончились. Теперь пот с меня градом льет. А они все пишут и печатают. А потом мне дали все листы подписать, теперь жду, когда поведут в камеру к Вене, я вся дрожу. Мне говорят: «Можешь идти домой». — «Я не пойду без брата». — «Иди, иди, он ждет тебя в коридоре». А я не знаю, что со мной случилось, хлюпнулась на стул, не могу встать, ноги подкосились. Я говорю: «Скажите, за что такая пытка?» Мне говорят: «Ты что говоришь, какая пытка? Ты в уме? Наговоришь, что угодишь за решетку». Меня выпихнули за дверь и сказали: «Это твоего брата детская шалость. Захотел приключений». Приехали ко мне домой, смеялись, у него пленку отобрали.
Ну, у меня комната обитаемая. Кровать хорошая, стол, табуретки, штора на окне, ширма у кровати. Веня похвалил: «Можно жить. Динка, наверно, меня осенью в армию возьмут».
Извиняюсь и прошу этот листок пропустить, не читай его.
И опять моя деревня дальняя, глухая, но спокою не дает. Хотя она мне мачехой была. Но вспоминаю и поплачу. Наш быт, нравы, обычаи сельской жизни. Девственный лес, речка Пеженга, поля колхозные. Все это стоит перед моими глазами. Хотя мы все, дети, родились по разным деревням. Лида родилась в Лукерине, я на хуторке Баженово, Веня в Лукине. Это так мама говорила. Мы с Веней родились уже в колхозе. В нашей деревне жили 3 брата Баженовы — Иван, Степан, Алексей. Они выехали из Лукерина еще до революции, у них большие семьи. И ещё 3 брата — Иван, Алексей, Павел Немкины, тоже из Лукерина. Наши родители к ним переехали в деревню Ильинское. Хотя уже были все в колхозе. Но нас невзлюбили. Конечно, втихаря поносили нас. Они уже приспособились — как можно урвать у колхоза. Зерно ночью измолотят, овин разделят и так жили — не тужили. Конечно, это проделывали братья Баженовы. Потому что гумно стояло на их усадьбе, рядом с домом Степана, у них большой скотный двор, сдавали колхозу за трудодни, и Степан был конюхом, этим сеном своего скота кормили и братьям давали. В колхозах не давали косить для своего скота, только по трудодням дадут центнера два, а корове надо тридцать центнеров. Так они наживались. Когда в 36-м году была засуха, 5 месяцев не было дождя, а такая страшная жара стояла, речки пересохли, леса горели. Нигде ничего не выросло, зимой скот умирал, колхозный и свой. Хлеба давали по 1 кг. На семью пекли в Лукерине, развозили по деревням, голод страшный был. А наши деревенские рады, 2 недели жила». — «Вот видишь, мамка, а ведь ты её не любила, а она в сто раз человечнее тебя». — «Ну уж, скажешь тоже». У нас пока затишье. Надолго ли?
Живем, все вроде нормально. Мамке из ЖКО предложили поработать дворником на лето, пока люди в отпуске. Поработаешь, будешь пенсию получать не колхозную, 12 рубей, а производственную. Ну что, она опять на меня: «Это ты хочешь, чтобы я работала». В слезы пустилась. «Мамка, да я такого и не думала». Написала Лиде письмо, что вот доча-то меня заставляет работать. Лида пишет: «Динка, что ты издеваешься над мамкой, я на тебя напишу жалобу на работу». Хорошо, пиши хоть Сталину, мне не привыкать терпеть обиды от вас. А если бы и так, ей 53 года могла бы и поработать, ей предлагали из нашего барака понянчиться с ребенком по договору у нотариуса, как на производстве засчитывается в стаж и будешь получать получку 48 рублей в месяц за двоих детей. Раньше не было в поселках яслей и садиков. Она наотрез отказалась. Лида с мужем получают хорошие деньги, хотя раз в год матери прислали коробку конфет. Веня в армии, у меня за него душа болит, высылаю ему то 15 рублей, то 10. Он очень рад, доволен, ведь солдатам помогают родители, а Веня у нас, как безродный. Ну, а мамка обжилась, подружек завела, живет в свое удовольствие. Любит конфеты, карамель, день и ночь сосет, везде напрячет, под подушкой, матрасом, в карманах, все слипнется. Иногда вынудит меня. «Мамка, ну зачем ты все прячешь, ведь никто от тебя не отнимет, положи в тумбочку и бери, ешь спокойно. Могут тараканы завестись. Везде хлебные крошки, зачем ты все хлеб прячешь? От себя или от меня, или думаешь, голодовка будет?»
От Вени письма получаем часто, прислал фото. Я его спросила в письме: «Пишут ли тебе девушки с Мурманска?» — «А как же, пишет мне Рита, я показывал тебе её фото, она очень хорошая девушка, молдаваночка, с Тирасполя родом, учится в Мурманске. Я ей на день рожденья стишки сочинил, высылаю тебе черновик — как ты оценишь?» Я жалею, что не сохранила их до сегодня. У меня отпуск в августе, не решила, куда поеду. В деревню ехать, там ещё бедновато живут. В магазинах один хлеб дают, сколь хочешь, вот ведь как, теперь не умрут с голода колхозники.
Но тут другой поворот и сразу. «Динка, приезжай к нам, мы находимся на юге в Краснодарском крае, город Апшеронск, думаем здесь купить домик, пусть мамка живет в нем, а мы будем приезжать сюда на отдых. Динка, возможно и тебе надо сюда переехать, насовсем, это не дело тебе в шахте работать, приезжай, все обсудим, что и как. Ну, наша мать радехонька — поеду к Лиденьке, любимой доченьке. Я говорю: «Мамка, подожди, может, вместе поедем, у меня отпуск через 10 дней». — «Ну уж нет, я одна поеду». Ну ладно, с Богом. Лида пишет мне: «Дина, приезжай, купили домик, 2 комнаты, прихожая, веранда, летний домик, сад большой, винограда много, в центре города. Рядом рынок, магазины, парк хороший. Мамке поглянулось (понравилось)». Лида написала, что она здесь проживет год или два с сыном Витей 4-х лет. Ну, ладно, поеду, посмотрю своими глазами. Конечно, мне тоже понравилось — везде цветы, фрукты, рай, да и только. Мамка дома, а мы ходили на реку Пшеха рядом, купались, загорали. Ходили в театр, по парку гуляли, воздух чистый. И я поехала за расчетом.
До крайней точки земного пути не замутненное сердце свое донести. Сгибаясь, как под тяжкой гирей, но все же я иду-иду. О, Господи, не верила, что предстану перед тобой, но вот стою, и если я не плачу, то это просто сбой в моей душе. В путь я готова, Господи, благослови. Что ждет меня, не знаю, что будет впереди. Ад иль Рай, сочту и то, и это справедливым. У меня нет своего я, все в подчинения, что скажут, то я должна выполнять. Почему не думаю о себе. Мне было очень трудно съехать с насиженного места. С работы не отпускали, расчет не давали, в отделе кадров сказали, что бригады укомплектованы, теперь никого не рассчитываем и не принимаем, мастер уговаривает: «Давай мы тебе дадим путевку в санаторий, отдохнешь в Сочи и будешь работать». Много было неприятностей. Но всё позади, собрала свой скарб в большой мешок, зашила и отправила багажом.
Приехала в Апшеронск, на станции такси не ходят, а мне надо багаж везти. Подкатилась маленькая лошадка или что за чудо, что за животное, и тележку везет. Мужчина говорит: «Куда вас подвезти?» Говорю: «У меня багаж тяжелый 80 кг и чемодан». — «Мой ослик возит тонну». А вот это кто, ослик, значит. Поехали — и меня посадил. Я так смеялась. Думаю: вот бы кто увидел, Дина по городу едет на осле. Ну что, теперь опять все с нуля начинать жить. Лида с мужем уехали в Москву, там какие-то дела у них, да и родственников навестить, у Александра Сафроновича там брат и сестра. Да и сына навестить от первого брака, у него сын семейный уже. А нам с мамкой оставили Витю, 4 годика ему, он капризный, еле управляемся с ним.
Ну вот, это юг, красота неписанная и здесь мне надо жить, привыкнуть к местности, к людям, их обычаям, и какие соседи? Примут ли нас северян в свое общество? Городишко большой, на много километров вдоль и поперек. Домики маленькие, низкие, прямо у самой земли окошечки, но есть и большие. У кого есть средства, те строят замки, не хатки. Через месяц Лида приехала одна, Александр Сафронович из Москвы улетел в свой Якутск. У Лиды часто сердце прихватывает, часто вызываю «скорую». Телефона нет, ночью впотьмах иду на «скорую», здесь такие ночи темные, таких я не видывала — страх, да и только. На ночь дома закрываются ставнями на окнах, иногда мы с Лидой ходили в кино с фонариком, иначе хоть глаз выколи. Да и многому я удивляюсь. Спросила соседку, которая рядом с нами, что это у вас такое растет, высокое, как бамбук. Она мне говорит: это мед. Ну, я стою, думаю: ну, и народец, надо же, посмеялась надо мной, мед, видите ли, растет! Надо спросить, не растет ли на грядках конфет. Поживем, увидим и всему научимся. Ну, а пока что я у Лиды на побегушках. «Динка, иди на рынок, купи мяса свиного с сахарной косточкой». Ну, уж это слишком, не слыхивала, что в мясе был сахар. И надо купить строго на 12 рублей. Не знаю, как сказать продавцу, да так и говорю: свешайте мне на 12 рублей свиного мяса и косточку с сахаром. Можно и с конфеткой, смеется продавец, вот тебе мясцо на 12 рублей с косточкой сахарной. Хуже нет быть служанкой. Я побелила в доме и снаружи дома. Глины намесила, печки в доме и на улице отремонтировала. Хожу за водой на колонку, колю дрова, топлю печки и все не так, ну госпожа, да и только.
Я опять вся ушла в воспоминанья о деревне. Закончилась война, к нам начал летать самолет. Для него расчистили целое поле в лесу, и домик сколотили для кассы продажи билетов. С Вологды до нас грузовики уже не едут, дорога вся в комьях, ремонта нет, средств нет. Вот и выделили самолет, но смельчаков не много. Вот один председатель в Вологду уехал на тракторе попутном, а с Вологды сел на самолет, его жена пришла к сестре в Лукино рассказывает: «Ну-ка, мой то шоршень (кличка ему) летев на ероплане да как полетит ероплан-от да к самому небу, да так в штаны навалил, так в бане отмывала. Бабы, не приведи Бог, лучше пешком пойдем». А попойди-ка, сколько лаптей издерешь. Бабы, на Лукерине-то, чуете, провожают ребятишек в солдаты. Поклон пришел, приглашение на проводы. Ну-ка, надо же, Федьку Тимохина взяли. Да ну, дурака-то. А що, работать-то будет, стрелять не надо, войны нет. Тимошиха плачет. Уговорила: Феденька, тебе там дадут шинель новую, да сапоги, брюки, шапку с ушами, рубаху. А как эдакой нарядник да приедешь домой, так девки все за тобой побегут. Ну, Федя песню поет, одну и ту же: «Ты тупича-ты тупича, расколоченный обух». Ой, Феденька, не пой жалобных-то песен, не печаль ты нас с тятей.
1. Скоро буду я жениться, скоро буду я женат, надоело полосатую подушку обнимать.
2. Ой, не плясальник я, опоясали меня не широким ремешком, а с огорода колышком.
3. Я мальчишка-хулиган, меня не любят девушки, только бабы небаские, да и то за денежки.
4. Кабы старая сударушка была не по душе, не ходил бы ночи темные, не спал бы в шалаше.
5. Председатель на трубе, счетовод на крыше, председатель говорит: «Я тебя повыше».
6. У-ух, я не писельнича и не плясальнича, подпоясалась кушаком соломы вязанича.
Так жили, веселились, умирали. В нашей деревенской речи не было буквы «Ц», все на «Ч», тут уш.
Это опять дедушкины сказки — расказни. Мы деду Пармену так и смотрели в рот, ждем его, что сегодня скажет. Он очень много знал, а где и сам сочинял, конечно, вам не интересно, ну и не читайте. Все это дребедень.
Хрен ты хрен, кто тебя сеял. А сеял Иван, а подсевал Селиван. А Селиванова жена присматривала, да приговаривала: хрен ты хрен.
Ой ты батюшка, судья, рассуди наши дела. А как ваши дела? Да я сидел на пне, хлебал репне, пришел ко мне татарин и по уху ударил. Ой ты батюшка, рассуди наши дела.
Ещё случай. У нас в деревне шили сарафаны, по подолу нашивали ленту шелковую разных расцветок. А на кофту тоже всяких рюшек и кружева. У кого сколь фантазии. Так вот приехали две девушки из нашей, возможно, деревни. Разнаряженные, в большой город. Пошли прогуляться по парку. Сели на скамейку, устали. Идет парень, сидит девушка, он присмотрелся к ней, спрашивает: «Девушка, вы полька?» — «Нет, я Манька, Полька срать ушла». — «Мария, вас можно пригласить в ресторан». — «А что это такое, ресторан?» — «Вы кушать хочите?» -«Конечно». Пришли в ресторан. «Что вам заказать покушать?» — «Три тарелки каши», — «А пить чего?» — «Пять стаканов чая». — «Хорошо». — «А какое вы вино любите?» — «На букву Ш». -«Шампанское?» — «Не-а, не угадал». — «Ну скажи, я то и закажу». — «Ну ты и дурак, не смог угадать. Шпирт я люблю».
Кабы мне бы дали еропланию, я слетала бы к милому в самую Ерманию.
Может, и забыла. Здесь я, наверное, повторяюсь. Ну и что.
Я помню, как в детстве мне хотелось быть взрослой. А теперь куда бы деться от взрослости своей. Не стоит торопиться да забегать вперед. Все будет так же и после меня. И так же было до меня. И все же расставаться нелегко со всем, что было. С ветром с поля налегке одеться, вот так и доходишь быстрее вдвое. Этим шагом прошла я в пути по дорогам не ближнее версты. То виднелись деревни вдали, то шумели зеленые сосны. Спутник Солнца порою Луна, а Луне помогали звезды. Так была я в пути не одна, проходя эти длинные версты.
Вы бывали хоть раз в лесу рано утром, морозец под 40. Я-то все прелести зимы — снега полтора-два метра — и видела, слышала. Зайдешь в лес: о-о, какая тишина! Но прислушайся — и услышишь. Дятел долбит сухое дерево, достает червей. А вот коростель заводит свои трели. Клесты-свистуны, их эхо раздается по всему лесу. А вот как лось гаркнет, это по всему лесу-эхо слышно его за версты, содрогается лес, с елок снег слетает. Стоишь, бывало, и вспорхнет прямо из-под ног, вылетает стая куропаток. Или бурундук с размаху прыгает в снег. Под снегом мышиные тропы. Эти мелкие грызуны питаются мышами, корешками и чем попадется. Вот клесты высиживают птенцов в самые морозные дни января. Гнездо вьют в самой густой елке. Свиристель — красивая птичка, как из сказки. Хвост его с желтой каймой, а сам красно-серый. Эти птички летают стаями и поздней весной высиживают потомство. То белка по вершинам ельника скачет, лущит шишки еловые и сосновые. Бывает бескормица, то грызут ольху. Лиса тоже лезет под снег за мышами, но не прочь и зайчатины откушать. Чуть прозевает заяц, лиса легкая, но у зайца прыжки длиннее, чем у лисы.
Опять я ухожу в сторону, неинтересно вам читать. Мое прошлое колхозное, деревенское. Не в неге я родилась, не в роскоши росла. Работала в колхозе с малых лет. Стаж мой с 6 лет. В холод, голод и зной сносила и терпела различные муки. Боролась с судьбой. Мои натруженные руки не знают, что такое покой. Я солнечному восход ни разу не проспала. В суровую годину укрытья не искала. Но плугом растирала утробу я земли. То дрогну, промокая, то вся горю в пыли. Работали для страны, не для себя, до упада сил, пока не упадем. Бери больше, кидай дальше. За это получишь трудодень. Урожай убирали, увозили государству, а колхознику давали самые отходы от зерна, полову. Живи, народ! Когда я повзрослела, я медленно училась жить. Хотя ученье трудно мне давалось. К тому же часто удавалось урок на после отложить. Я полагала: куда спешить? Я невнимательна была. И забывала 7 раз отмерять. То забывала своим слезам не верить. Уроки мне данные забывала. И все же училась жить. Терпенью научилась, и думаю, когда-то научусь — жить и не тужить. Но не сразу научилась жить.
В 1949 году мне дали в колхозе за труд медаль «За победу». Молодость промелькнула, мне уже 79 лет. Совсем старуха, но душа не увяла, она молодая. Но от тяжелых трудов согнула упругий мой хребет. На моих руках мозоли от топора, серпа и молота. Моим детям и внукам не стыдно за мать.
И ещё мне Бог помог побывать на своей родине. Встретились с родственниками, а их осталось очень мало, и со своими сверстниками, которые тоже съехались со всех сторон на родину. И что же за дни случились? Чем прогневал Бога человек? Там, где раньше много труб дымилось, две старухи доживают век. Как важно вовремя успеть — сказать кому-то слово доброе, чтоб от волненья сердце дрогнуло. Или подставить плечо надежное и знать, что будет так и впредь. Недалеко от Лукерино когда-то была наша деревня, стоял наш дом. Пронеслось, улетело время, и с грустью я вспоминаю о нем. Здесь прошло босоногое детство. Пусть не досыта ели порой. Не могли по моде одеться. А друг за друга стояли горой. Тяжела ты, крестьянская ноша. Рано вставай и поздно ложись. Воспитателем нашим хорошим была деревенская жизнь. Весной возвращаются птицы, мы радостно машем им вслед. А мне все по-прежнему снится деревня, которой уж нет.^ Пишу что помню. А голова совсем никуда -кружится, и руки дрожат, глаза устают. Вот дожила. Но жизнь меня била и ласкала. Оглянуться мне вечно недосуг. А вот грубое слово, как пуля, бьет по-живому, да как. Я страшно переволновалась, схватила инфаркт, я инвалид II группы. Так с ним и живу. Часто сердечные приступы. Спасибо врачам, откачают меня, ну, я опять пошла. Голова кружится, падаю, встаю и опять иду, и думаю, что скоро дойду. Жизнь прошла так торопливо, быстро, что, кажется, ещё и не жила, и родника воды холодной, чистой я вволюшку ещё не попила. Мечтаю по лужку с ветерком босиком пробежать, как бывало тогда в малолетстве.
Опишу, что еще помню, наши деревенские присказки. Повседневно времена года, крестьянские дела, а также о людях хороших, добрых, умных, но и о лентяях злых и пьяницах, и о женихах и невестах, есть похвала, упреки, насмешки.
1. Не от того голь оголела, что сладко пила да ела.
2. Солнце зимой, как мачеха, светит да не греет.
3. Зима мачеха, лето — матушка.
Сонливый да ленивый два родных брата.
Силы, как у быка, а работы как у воробья.
Хозяюшка в дому, что оладышки в меду.
Печь зимой, как сундук с золотом.
Хлеб да вода — крестьянская еда.
Хлеб батюшка, водица матушка.
Хлеб ржаной — отец родной.
Человек силен едой, как мельница водой.
Жизнь что море: то штиль, то буря.
Жизнь что луна: то полная, то на ущербе.
Дружба, как стекло: разобьешь, не склеишь.
Гол, как сокол, а остер, как бритва.
Видом орел, а умом тетерев.
Говорить не думая — что стрелять не целясь.
Говорит, что топором слова вырубает.
Стоит, как Игнат, ничего не знат.
Стоит как Арина, рот разиня.
Стоит как Офрося, ничего не просит.
Жадность, что река: чем дальше, тем шире.
Дома — петух, а на улице — курица.
Прост, как свинья, лукав, как змея, объегорит любого.
Заботится как волк об овцах (председатель колхоза)
Это опишу, как жили. Выходили замуж девушки, когда их засватают. Невеста каждый вечер садится на лавку в кухне и причитает, как ей не хочется идти в чужие люди из родного дома в далекую деревню, в чужой дом. Да не за милого, а постылого жениха. Ну, а если девушка не согласна себя оплакивать, нанимали родители плакущую старушку за деньги или за хлеб. Смотря какие родители. Как нашу тетку Офонасью выдали насильно, потому, что посватались из богатой семьи. Офонасья дружила с парнем хорошим, умным, но из бедных. Асаф сказал: если не пойдешь за Гнусова, то тебя по миру пущу и за Олеху не отдам, их надо всех кормить из моего сусека. По широкой сельской улице шел ко девице удалой молодец. Пойдешь ли ты, красавица, за меня замуж, теперича и сватов нашлю. Уж я свахами-тс сватанная, сваха сватала — хвасталася, за чужу душу божилась: он не вор-то, не пьяница, не зайдет он в питейный дом, не пропьет свою Мариюшку. Хоть он пропьет её — выкупит. Не рублями, не полтинами, а золотыми только гривнами. Ты дитё ли наше милое. Приголубь-кг ясна сокола к себе ясна сокола зеленого. Родители, мы хотим тебя, Мариюшка, во чужие люда отдать, во незнакомые, ко Ивану на руки навеки. Вы понежите её, полелеете её, как мы е« нежили, не давали на её венути ветру дунути, дождю капнути. Татенька, маминька мои мильи подскажите, как мне в чужих-то людях жить, как мне называть свекра лютого, а свекров] спесивую, гордую, ломливую, а золовушки змеи подколодные, только деверь умница в и: семье. Милое ты наше дитятко, убавь спеси-гордости, назови свекра батюшкой, а свекров: матушкой. Ну, и так далее. Лучше деверя четыре, чем одна золовушка.
Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что даст мне сегодняшний день. Но и этот день ничего мне не удалось найти работу, у каждого завода, фабрики толпы людей стоят, день и ночь, где и как найти работу, на любую согласна. Лида недовольна и не верит мне — почему не найти работы. Я втихаря плачу, сплю во времянке, это домик рядом с домом. Я его вычистила, побелила, раму застеклила, сколотила из досок кровать, из ящиков столик. Ухожу спать, ну, и даю волю слезам. Ну, зачем я здесь? Как я могла все бросить и поехать в никуда, зная характер мамки и Лиды. Если мне вернуться в Мончегорск, ни жилья, ни работы, опять то же, и все сначала. Лида вычитала из газет, что принимаются от населения желуди. А где и как найти их. Я пошла к соседям, подскажите, что это такое желуди и где их найти. О-о, это надо ехать за аэропорт в лес дубовый, можно и пешком, тут не далеко, 6 км, автобус редко ходит, да и тот маленький, народу полно, не сесть. Сказали, в какую сторону идти и надо вырубить большую жердь, чтобы сбивать с дуба желуди. Людей очень много, навряд ли вы чего найдете. И мы пошли с мамкой, взяли емкости, ведро, сумку, топор. Вышли рано в 5 час. Лида с Витей почивали, они спят до 10-11 часов. И не посмели взять хлеба с собой. У Лиды все учитывается, не поешь когда хочешь. Мы долго шли, народу идет сотни, всем надо заработать хоть какие-то копейки. Наконец, пришли в лес. О Боже, такие дубы до небес. Мужики лезут на дуб и бьют по веткам, и летят желуди. А мы что: находим поменьше дуб, снизу поколотим, за целый день собрали одно ведро, устали, хотим есть. Мамке говорю: желуди едят или нет? Она говорит: я слышала, что желуди едят свиньи, а давай попробуем, нам понравились. Это лучше, чем опилки мы ели в деревне. Сдали на 3 рубля, довольны.
Лида недовольна: надо же, вдвоем собрали ведро желудей, вот соседи по 50 кг сдают в день. Ну, тут мамка начала оправдываться: «Лиденька, это всё она дура, ведь могла бы залезти на дуб, так нет, говорит — я не кошка». От обиды, от бессилия, от голода ушла в свою берлогу. Мамка приходила, звала: «Иди ешь, если хочешь». Нет, не хочу. Мне с вечера заданье -сходить на рынок, купить той же свинины 250 г, литр молока и стакан меда. Все выполнила и не знаю, угодила ли. И вдруг Лида кричит: «Динка, иди сюда». О Боже, опять что-то не так! Ты только попробуй, что купила, не мед, а черт знает что, деньги истратила, ну что я, деньги не велики — 1р 50 коп. Но я ведь не знаю, какой должен быть мед, я лизнула: сладкий, чего ещё надо. Я позвала соседку, она нам объяснила, этот мед тростниковый, очень полезный. Лида чуть успокоилась, но со мной не разговаривала весь день. Оказывается, этот мед растет в огороде, я тогда думала. Надо мной посмеялись, сказали — мед растет. А позднее сама помогала выжимать жидкость из тростника, а потом эту жидкость варят 12 часов, пока не загустеет, и мед готов. А также веники растут просто диво. Всему надо научиться. Лида с Витей ходят в столовую на обед. У нас картошка выросла, но до чего она мелкая, дождей нет, такая жара стоит. У Лиды всё с сердцем плохо. Однажды она отправила меня на рынок: «Динка, купи живую куру, будем супы варить». Купила, и опять Лида забраковала. Я не знала, что так могут люди обмануть, у куры один бок больной. Ну, опять мне взбучка. «Лида, почему ты сама не ходишь на рынок, тебя бы не обманули». — «Я на рынок? Позориться, ты что?»
Наконец-то я нашла работу, рада до слез. Называется виносадзавод. Это летом ухаживают за садом фруктовым — яблоки, груша, виноград, персики и много клубники, а также овощей большие плантации. Зимой эту продукцию перерабатывают и везут по магазинам. Сады находятся от города в 5 км. Сначала мне казалось, очень далеко, но привыкла с 8 часов работа. Выхожу в 6 ч 30 мин. Работа нравится. Весна, обрезаем виноград, окапываем деревья, опыляем химикатами все деревья и виноград. Эта работа мне очень нравится, не то что пахать поле, или лес рубить, или в шахте работать. Здесь 2 бригады по 7 человек. Агроном тут главный, пожилой мужичок, и звеньевые в бригаде. Меня хорошо приняли в бригаду девчонки молодые, есть и старше меня женщины. Мне все показывают, рассказывают. В этом заводе работает в отделе кадров Баженова Надежда Павловна родом с Сибири. Приехали сюда с мужем, учились в Краснодаре и направили их. Муж инженер, работает на мехзаводе. Мы с Надей подружились, она очень мне понравилась. Она мне говорит: «Дина, если тебя спросят, не родственница ли тебе Баженова?» ты говори «да», так тебе будет лучше. И правда, спрашивали не раз, я говорю: «Да, мы родня с Надей». Агроном тоже мне поверил. Привыкаю к их речи. Я про себя смеюсь, когда они говорят Хвилина — Филипп, Зосыма — Изосим, и женщина рассказывает: «Моя-то доня пыше мине: мамо, я сдесь уже говорю на Г, я ею пышу: донюшка мия родыма, а я уже и на X не бачу». Дочь уехала в Архангельск, а мать работает и строит хату саманную. Теперь уже поспела клубника, собираем в большие корзины, на машине увозят в контору. Сначала контору накормить, а потом и нам. Я в первый день так наелась, что смотреть не хочу на клубнику. Потом нам, каждому полевому работнику, разрешили набрать корзину для себя. А клубника крупная, не мятая, как в магазинах. Ну, Лида радехонька, наелись и варенья сварили. У нас тут же с садом пасека, сначала начальству дали, а потом нам по литровой банке меду. Ну, тут Лида рада меня расцеловать, и ещё черешни корзину.
Я теперь зарабатываю не сдельно, а оклад 70 рублей, из них уплатить подоходный, профсоюзный и комсомольские взносы. Ну, а что осталось, отдаю Лиды. Она — хозяйка в доме. Наступила зима, работаем на заводе. Наша работа — промывать фрукты, засыпать в моечную машину, чистые фрукты загружать в пресс, это уже другие делают. Дел полно, моем, стерилизуем тару под вино и патоку, ящики с готовой продукцией, вином, грузим в машину, фуру вне рабочего дня меня ставят контролировать, чтоб не воровали. Вино, чуть прозеваешь, и тяпнут ящик вина. Но тут такой закон, если не разобьешь из 100 ни одного ящика, то дают ящик вина, 20 бутылок. Бывает, пока вино не разлито в бутылки, пей, сколь хочешь. Мужчины напивались до одури, а начальство увозили домой, сколь хотели. Теперь наше вино стали браковать, по ГОСТу не проходит, как квас, сахару мало кладут. Посмотри, у нас назначили развезти по магазинам по Апшеронску 50 ящиков вина, дали двух грузчиков, поехали. Заехали в первый магазин, я подаю документы. Мне говорят: вашу продукцию не берут, все полки заставлены, это не вино, а пойло для свиней. Объездили несколько магазинов, так обратно привезли. Директор на меня закричал: почему бы тебе им сказать, что эта партия вина проверена, вот вы и везите сами. Ну, я тоже по молодости, по глупости, все высказала на собрании, что у вас .тут одни жулики, воры, сколько ещё ваш завод будет существовать. Тут директор вскочил: «Я тебя увольняю, сегодня же подпишу увольнение». Я говорю: «Очень хорошо, я сама уйду, а завтра вы будете о себе читать во всех газетах, я вас выведу на чистую воду». Рабочие все захлопали в ладоши: молодец, Дина! Я не вышла на работу. Теперь я уже освоилась, найду работу. За мной приехал агроном: «Пожалуйста, иди на работу».
Сбыта продукции нет, и денег нет платить нечем рабочим, а всех рабочих 80 человек. Рабочие осмелели,. надо же, девчонка не побоялась, все высказала директору и всем управленцам, все подписались убрать Прусака, на его место поставить директором экспедитора Нетреба Никиту Ниловича. Меня вернули на свое рабочее место. Но я боялась, как бы меня не убили. Надя меня поддержала: «Молодец. Ты, Дина, сдвинула с места все накипевшее у рабочих». Начало апреля — опять начинается тара, ветер горячий дует, у нас заболел агроном Михайленко Семен Михайлович. Вызвал меня в контору новый директор. Говорит: «Мы решили тебя поставить заместителем агронома, пока он в больнице, у него язва желудка, может, месяца на два. Я говорю: «Ой, что вы, я писать не умею и вообще, мне не справится, теперь самая ответственная пора, сеять, пахать, обрезка винограда, окопать деревья». Ну что, попробую. Ну что, рабочие помогут, что и когда сеять, сажать. Жара, а я хожу в резиновых сапогах, очень боюсь змей, они на каждом шагу, это что-то. Теперь весна, они скатываются в большой шар, одна женщина по этому шару толстой палкой со всей силы даст, они сразу врассыпную. Они все ходят в тапочках на босу ногу. У всех рабочих там же есть земля, садят овощи. И я себе вскопала целину после работы, посадила помидоры, огурцы и всякую дребедень. Работаю на износ, хожу в больницу за расписанием на неделю работы к Семену Михайловичу. Он расскажет все до мелочей, напишет — как, что, когда. Утром прихожу раньше всех, сторож спит, доложит все на месте. Пока что воровать нечего, только клубника уже начинает созревать, ранней весной делали кривой яблокам, спиливали деревья, выбраковывали малоплодоносящие, срезали черенки, заостряли тонким ножом вокруг под кору пенька, втыкали черенки и крепко затягивали, замазывали садовым варом, за весну 55 штук.
Этим летом к нам приезжали из Мончегорска наши родственники — Комаровы Миша, Надя с дочкой. Отдохнули, им понравилось. Река рядом, купались, загорели. Комаровы уехали. Приехали мои знакомые — Мотовилов Геннадий Аркадьевич с детьми Таней и Витей, их знакомые Владька, Анна с дочками, вообще-то весело, я очень рада гостям, познакомила с городом. Домик наш в самом центре города, река, рядом рынок, парк огромный, кинотеатры, летний и зимний, магазины и почта.
Наши отдыхающие довольны, с продуктами хорошо, обеды готовили в летней кухне, иногда ходили в столовую кушать. У нас уже поспели яблоки, сливы, вишни, груши, срывайте, ешьте, сколь хотите, и сушите на крыше. Винограда тоже полно, некуда девать, я купила бочонок на 2 ведра. Закладывала туда виноград, туго набью и закрою плотно. Он целый месяц бродит, днем нагревается, и бочка качается, такая сила брожения. Ну, а потом отжимали, разливали в емкости, получалось хорошее вино. Гости пили — хвалили. Всё им нравится, только уж очень жарко. Удивлялись: как ты, Дина, работаешь при таком пекле. А что делать, они меня агитируют уехать в Мончегорск, а сюда ездить на отдых. Ну, а как у меня на работе? Дела идут хорошо, теперь сентябрь, что весной привили черенки — теперь на выставку областную везти на соревнование краевое. Спилили три пенька с прививкой, и меня направили лететь самолетом в Краснодар. О-о, а я самолетов боюсь, да надо там выступать, бороться за первое место. Агроном говорит: ты же звеньевая, я тебе всё уже написал, ты только там с трибуны прочитаешь и всё, делов-то! А почему я? Прививку делали девчата, я не могла ни одной привить. И полетела, 40 минут лета, на лошади проводили до аэропорта.
В самолете меня так укачало, я, думала, умру. Еле вылезла из самолета, голова закружилась. Я упала, меня начали поднимать, кричу: не трогайте меня, полежу на земле, мне будет лучше. А теперь что. Привезли нас в Дом культуры. О Боже, огромный зал людей со всего края. Как мне выйти на трибуну, боюсь, как бы мне со страху в обморок не упасть. Все одеты, обуты празднично, а я колхозница не отесана, вылезла из дремучего леса, в сатиновом платьишке, в косыночке, на ногах ботинки, но новые. Я же в школе не бывала, самоучка, читаю по слогам печатный текст. Со мной был экспедитор, держусь за него. Прошу: зачитай вот эти бумаги, которые написал агроном, я боюсь, у меня очень голова болит, кружится, упаду, опять у меня от самолета ещё не прошел шок. Он видит мое состояние, выступил. Стали зачитывать проценты, кто на первом месте по привою. О-о, у нас самый большой процент. Дают нам сертификат, путевку в Москву на ВДНХ. И опять меня отправляют, что я, дескать, знаю, где Москва и всё в Москве. Да, возможно, поехала бы, но у меня совсем другие планы, уехать в Мончегорск, я уже здесь не могу жить. Мамка с соседями меня сватают за парализованного урода, это наших соседей знакомые. Он живет с матерью, оба уже старые, мать учительница, на пенсии, она умрет, за сыном нужен уход. Если он умрет, то дом большой достанется тому опекуну. Мамка мне все уши прожужжала: «Динка, выйдешь за Олега, и дом твой будет». -«Мамка, зачем мне этот дом?» — «Динка, дура, неужели ты не понимаешь, не надейся на этот дом Лиденькин». Ах, вот оно что, да провалитесь вы со своим домом, сорвали меня в Мончегорске с обжитого места, пообещали рай в саду. Пошла за расчетом, там не верят, что я уезжаю. Да что ты, тебя все уважают, продвинули, в Москву поедешь, и решено тебя отправить учиться на агронома.
Со слезами в душе простилась я с югом. Снова дорога, и с силой магической все это вновь охватило меня. Грохот, носильщики, свет электрический, крики, прощания, свистки, суета, шум колес, шепот сонный. А мысли мои с плачем сплетаются. Путь далекий передо мной лежит. Что держало здесь меня?. Что кинуть мне жаль и зачем? До сих пор не стремилась я вдаль. И почему у меня крепкой воли нет, чтоб порой перед бедой за себя постоять. И зачем мне было на свет появляться, нежеланной и незваной. Горе горькое со мной родилось, да так со мной и выросло, не оставляет меня. Я рада тому, что вырвалась из-под гнета материнского. Я еду опять туда, где дни проходят без солнышка. Ночи темные без месяца. Бури страшные, морозы жгучие. Мечты, повсюду вы меня сопровождали, и мрачной жизни путь цветами устилали. И мои мысли врозь расходятся, без следа теряются, темной тучей покрываются. Туда я еду, где небо низко и уныло, и так сумрачно вдали, как будто время здесь застыло, как будто край земли. Густой зеленый ельник у дороги. Глубокие пушистые снега. В них ходят могучие тонконогие олени, к спине откинув тяжелые рога.
Здравствуй, мой Мончегорск. Как я рада увидеть тебя! Как ты за мое глупое отсутствие похорошел. Высокие дома, широкие улицы, большие благоустроенные площади, рынки. Люблю шум и грохот заводов и фабрик, и ещё люблю северное сияние.
Люблю озера зеркальную гладь.
И продолжаю думать, что я нахожусь в начале своей истории. Что я не туда попала. Теперь надо начинать все с начала. Господи, помоги мне устроиться на работу.
Ты раскрой мне, природа, объятия.
Чтоб я слилась с красотою твоей,
Ты, высокое небо далекое.
Беспредельный простор голубой.
Ты земное поле широкое.
Только к вам я стремлюся душой.
Теперь, я думаю, не пропаду, все мне знакомо здесь. Меня встретили Комаровы, хотя у них комната в бараке 10 кв. метров, но в тесноте, да не в обиде. Самих трое, и я поместилась. Я ехала, надеялась, что опять пойду работать в шахту. Но все круто изменилось. Всех женщин вывели из шахты в первую очередь, рудник закрывается, потому что жилы никеля совсем стали бедные, нет выгоды, и теперь тысячи шахтеров надо устроить на работу. Очень многие уехали в Оленегорск, Апатиты. Там открылись рудники. Но наш комбинат «Североникель» работает, плавят руду, из Печенги и Норильска возят. Миша Комаров устроился в плавильный цех, жена его работает продавцом, дочь ходит в садик. Я растерялась: что мне делать? На стройку набирают рабочих, но в «Кольстрое» маленькая зарплата, не то что на «Североникеле». Хожу, ищу свое бывшее начальство. Они все пристроились на комбинат. Нашла начальника второй шахты Ивана Андреевича Матыцина. Конечно, я грех на душу взяла, наговорила ему, что я вышла из декретного отпуска, рудник закрылся, где мне найти работу, помогите. Он спросил, на какой шахте работала? На четвертой. Ну, найдем тебе работу. Требуются хлораторщики в энергоцех. Написал записку, и я пошла довольная до слез. Нашла этот цех, спросили, какое образование, я, конечно, с юмором говорю: я прошла горьковскую школу образованья самоучки. У меня сестра и брат учились, а я от них самую малость научилась читать и писать.
И опять снится мне моя деревня. Бревенчатой страны. В доме душный воздух, дым лучины, под ногами сор, сор на лавках, паутины по углам узор, закоптелые полати. Хлеба нет, одна картошка, даже соли нет не один год. Но колхозники работают, мыкают горе, во всем нужда. Ждут: а завтра будет лучше, чем вчера. Но и завтра не сразу пришло, а только в 55-м году, когда стал управлять страной Никита Хрущев, отменил все налоги с колхозников. Из колхозов сделали совхозы, и люди стали получать не трудодни, а деньгами рассчитывали, и люди воспрянули духом. Появился хлеб в магазинах, бери сколько хочешь. Людей в деревнях совсем мало осталось, мужчины с войны не вернулись, рождаемость детей на ноле, из деревень разъехались вся молодежь, кто куда, выдали всем паспорта, а их не бывало в деревнях отродясь. Деревни опустели. Приказ сверху — все деревни вывезти ближе к районам, и поехали, поля бросили и все насиженные веками местности. Все слились в кучу. Поля не пашутся, не сеются. А что делать рабочей силе? Работы нет, что делать, пустились в пьянство, пьют стар и млад, это что-то, мир перевернулся. На что покупают водку? Кто получает пенсию немалую, а кто выращивают скота, телят, поросят сдают государству. На водку хватает, пашут участки земли, бери хоть 10 гектар, выращивают зерно, овощи, не ленись мужик, все в его руках. А на полях вырос лес, растут грибы. Но люди ждут, когда же на бывших полях будут поднимать целину и сельское хозяйство. Пока ещё не совсем вымерли деревни. Пока ещё теплится жизнь деревни. Дороги очень плохие, но на тракторе можно доехать до нашей деревни.
Зима. Красною кистью рябина зажглась, падали листья, и я родилась в студеную зиму. Один туман, молочно-синий, как чья-то краткая печаль. Ангелы-хранители хранили меня, дитя, протяни ручки к нам, мы научим тебя летать, ну же, скорее, пока не проснулася мать. И мать проснулась не от сна, а от страха, чуть греха не сотворили с отцом. И я осталась жива, и луна на меня из-за тучи смотрела, как будто в слезах. За то, что я из хвойной дали моей бревенчатой страны. Моя душа, как мох на кочке, пригрелась северной весны. Изба-питательница меня взрастила не напрасно, я гожусь на труд, на счастье. Сплетаю с них, как лапоть, не смейся, не суди. Я — женщина, как бы это сказать, недоразвитая. Я недоросль. Смогла бы я книгой быть между книг. В моих строках и дум, и слов избыток. В моих листах все так, как было, мне нужнее знать немного, со смешным сойдусь и посмеюсь, с печальным от души поплачу. Призрак счастья ходил за мной. Но привязались ко мне обман, коварство и зло. Без ума, без разума. Силой замуж выдали. Золотой век девичий силой укоротили. Мое счастье, светлые мои мысли, одну за другой унесло. Мне нужно долго время, чтоб заглушить горе и грусть, печаль выплакать. Судьба злая меня подрезала, мне и доныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть. И какая злость во мне кипела против вся и всех, которым счастливо жилось.
Устроилась на работу в энергоцех, в хлораторную. Это обеззараживание сточной воды хлором, газом и фтором. Баллоны с газом, огромная емкость с хлором и мешки с фтором. Конечно, не сразу поняли, что к чему. Надо учиться.
Дали мне койку в общежитии. Три девчонки молодые и я. Присматриваюсь, приживаюсь, притираюсь к новой жизни. Живу, работаю, тружусь в желание, время трачу, чего ж ищу? К чему стремлюсь в своей стране без образования, на что гожусь? На общем собрании начальник цеха объявил, что из цеха 16 человек должны пойти в вечернюю школу. Все или многие из вас не окончили и 4-х классов, помешала война. Школа будет работать в две смены, с 10 утра и с 18 часов вечера. Школа открывается здесь при комбинате «Североникель». С 5 класса по 10 класс и моя фамилия промелькнула. О Боже, мне бы надо в 1-й класс. Что делать, как быть? Надо там платок с головы снимать, что я скажу учителю, но надо идти хоть немного поучиться. Мастер сказал: не пойдешь в школу, с работы уволят. Цех закупил для нас портфели образование, я, конечно, с юмором говорю: я прошла горьковскую школу образованья самоучки. У меня сестра и брат учились, а я от них самую малость научилась читать и писать.
И опять снится мне моя деревня. Бревенчатой страны. В доме душный воздух, дым лучины, под ногами сор, сор на лавках, паутины по углам узор, закоптелые полати. Хлеба нет, одна картошка, даже соли нет не один год. Но колхозники работают, мыкают горе, во всем нужда. Ждут: а завтра будет лучше, чем вчера. Но и завтра не сразу пришло, а только в 55-м году, когда стал управлять страной Никита Хрущев, отменил все налоги с колхозников. Из колхозов сделали совхозы, и люди стали получать не трудодни, а деньгами рассчитывали, и люди воспрянули духом. Появился хлеб в магазинах, бери сколько хочешь. Людей в деревнях совсем мало осталось, мужчины с войны не вернулись, рождаемость детей на ноле, из деревень разъехались вся молодежь, кто куда, выдали всем паспорта, а их не бывало в деревнях отродясь. Деревни опустели. Приказ сверху — все деревни вывезти ближе к районам, и поехали, поля бросили и все насиженные веками местности. Все слились в кучу. Поля не пашутся, не сеются. А что делать рабочей силе? Работы нет, что делать, пустились в пьянство, пьют стар и млад, это что-то, мир перевернулся. На что покупают водку? Кто получает пенсию немалую, а кто выращивают скота, телят, поросят сдают государству. На водку хватает, пашут участки земли, бери хоть 10 гектар, выращивают зерно, овощи, не ленись мужик, все в его руках. А на полях вырос лес, растут грибы. Но люди ждут, когда же на бывших полях будут поднимать целину и сельское хозяйство. Пока ещё не совсем вымерли деревни. Пока ещё теплится жизнь деревни. Дороги очень плохие, но на тракторе можно доехать до нашей деревни.
Зима. Красною кистью рябина зажглась, падали листья, и я родилась в студеную зиму. Один туман, молочно-синий, как чья-то краткая печаль. Ангелы-хранители хранили меня, дитя, протяни ручки к нам, мы научим тебя летать, ну же, скорее, пока не проснулася мать. И мать проснулась не от сна, а от страха, чуть греха не сотворили с отцом. И я осталась жива, и луна на меня из-за тучи смотрела, как будто в слезах. За то, что я из хвойной дали моей бревенчатой страны. Моя душа, как мох на кочке, пригрелась северной весны. Изба-питательница меня взрастила не напрасно, я гожусь на труд, на счастье. Сплетаю с них, как лапоть, не смейся, не суди. Я — женщина, как бы это сказать, недоразвитая. Я недоросль. Смогла бы я книгой быть между книг. В моих строках и дум, и слов избыток. В моих листах все так, как было, мне нужнее знать немного, со смешным сойдусь и посмеюсь, с печальным от души поплачу. Призрак счастья ходил за мной. Но привязались ко мне обман, коварство и зло. Без ума, без разума. Силой замуж выдали. Золотой век девичий силой укоротили. Мое счастье, светлые мои мысли, одну за другой унесло. Мне нужно долго время, чтоб заглушить горе и грусть, печаль выплакать. Судьба злая меня подрезала, мне и доныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть. И какая злость во мне кипела против вся и всех, которым счастливо жилось.
Устроилась на работу в энергоцех, в хлораторную. Это обеззараживание сточной воды хлором, газом и фтором. Баллоны с газом, огромная емкость с хлором и мешки с фтором. Конечно, не сразу поняли, что к чему. Надо учиться.
Дали мне койку в общежитии. Три девчонки молодые и я. Присматриваюсь, приживаюсь, притираюсь к новой жизни. Живу, работаю, тружусь в желание, время трачу, чего ж ищу? К чему стремлюсь в своей стране без образования, на что гожусь? На общем собрании начальник цеха объявил, что из цеха 16 человек должны пойти в вечернюю школу. Все или многие из вас не окончили и 4-х классов, помешала война. Школа будет работать в две смены, с 10 утра и с 18 часов вечера. Школа открывается здесь при комбинате «Североникель». С 5 класса по 10 класс и моя фамилия промелькнула. О Боже, мне бы надо в 1-й класс. Что делать, как быть? Надо там платок с головы снимать, что я скажу учителю, но надо идти хоть немного поучиться. Мастер сказал: не пойдешь в школу, с работы уволят. Цех закупил для нас портфели коричневые, красивые. Учебники мне собрали для 5 класса. Наши женщины с цеха, у кого уже дети закончили школу. И вот Динка — ученица 5 класса, в школе мне понравилось. Таких, как я, большинство. И все вологодские. Учителя очень внимательные, помогают. Пишем диктант, учим стихотворения, таблицу умножения. Пишу, конечно, плохо, но читаю хорошо и пишу сочиненье на четыре. Каникул нет, обещают только летом, отдохнем. Я работаю по сменам, мне нравится работа, я там делаю уроки — в общежитии невозможно. Там к девчатам приходят мальчики, шум, гам, музыка, они все закончили по 6-7 классов, смеются надо мной. Когда я учу таблицу умножения или стихотворение, я не сержусь на них, они после войны родились, им легче живется.
Веня отслужил армию и поступил в Ленинграде на учебу, забыла, как называется, учебное заведение, вроде военно-морское училище. Написал мне, что заезжал к мамке, все у нее хорошо. Лида обещает, что семьей приедут в июне. За Веню очень рада, но как он там без денег в чужом месте, пока его оформили, и когда начались у них занятия, потом уже кормили их. Другие ребята приезжают с родителями, с деньгами, а наш Венька как безродный. Я как вспомню, у меня слезы на глазах, смог бы мне написать, я бы помогла. Хотя я и получаю ещё мало, полярок нет, да я только ещё обучение прохожу на разряд. Но я бы заняла денег, выслала ему, мамка мне пишет: «Динушка, вышли денежек, уже весна, надо семян купить, сажать огород». Так хочется ей высказать все наболевшее. Что ж ты с Лиденьки не просишь? Они живут в Якутске, оба работают, получают большие деньги. Мне ведь тоже хочется одеться, обуться, как и люди. Но что, высылаю, а что делать, она знает, что я забываю все обиды на нее, вот и давит на меня. Ну, я за зиму поустала немного, работа и учеба в школе, на работе сдала экзамен на третий разряд, рада, и переводят в шестой класс, конечно, почти одни тройки, по математике худо, дроби не могу, да и все решать, да и таблица не дается, вот ведь напасть. Учительница говорит: я тебя подтяну летом. Мои знакомые по руднику девчонки все замуж вышли. Замужем все за вологодскими парнями, мне не досталось вологодского. Но белорусов, хохлов и татар не люблю. Конечно, выбор есть, но слишком хорошего тоже не надо, потому что я урод. Надо выбрать под стать самой себе. Конечно, спешить некуда, мне 26 лет. Как раньше в моей деревне говорили: суженый урод будет у ворот. Если бы у меня было бы жилье, то жила бы одна, надоело общежитие.
В Мончегорске очень плохо с жильем, на работе ставили на очередь, чтоб получить комнату в бараке, 10 метров. Вне очереди давали у кого двое детей. Строили в поселках бараки из досок, с двух сторон доски, внутрь засыпали песок, опилки и штукатурили в каждом бараке по 20 комнат, по 10 м каждая. В нем делали кухню, туалет. Когда получали эти 10 метров, так радовались, как будто дворец получили. В 50-е годы дома кирпичные строили долго, по 4-5 лет один дом, делали все вручную, подъемников не было, доставляли кирпич и бетон и все оборудование на носилках на все этажи. Итак, мне пока что и мечтать не приходится о жилье. Где я теперь живу, раньше в этом доме двухэтажном было профучилище. В нем Веня учился на столяра-плотника, а теперь женское общежитие, называют «женский монастырь», девчонок было в нем больше 100 человек. Каждую субботу были танцы под гармошку, балалайку, магнитофон, ребят много приходило. Девчата выбирали: если есть у парня жилье, то соглашались замуж. Или снимали комнату в частном бараке. Я тоже присматривалась к парню, мне казалось, что вроде ничего, работает в геологической розыскной партии, называют ГРП. Родом из приморского края, в общем, с Владивостока. Вырос в большой семье, много их было у родителей, отца забрали в 37-м году, расстреляли, признали врагом народа. С председателем колхоза поругался, и тот накапал на него куда надо. 11 детей осталось, мал-мала меньше, мать тянула колхозную лямку одна. Когда дети выросли, разыскали — где и как, зачем погиб их отец. Им сообщили, что судила тройка. В эти годы восстановили справедливость. Матери платили компенсацию. Теперь из их семьи никого живых нет. Кустов здесь служил в армии. Сначала служил в Китае, потом перевели в Мончегорск. Ну вот, вроде ничего, черный, не очень красивый, но ведь «по Сеньке и шапка», как говаривали. У него комната 7 метров в маленьком доме ГРПовском. Два подъезда по три комнаты в подъезде, печка есть, туалет на улице.
Чего-то мне вдруг стало страшно, с кем бы посоветоваться. Но могут сказать: сама смотри, нам на свадьбе нальешь пива ковш, а ты живи, как хошь. Все так. Мотовиловы сказали, приведи, покажи, что он из себя, привела, представила. Кустов Павел Григорьевич, 23 года. Осмотрели, поговорили с ним, одобрили. Тетя Нина говорит: уж только у него волосы очень черные, не цыган ли. Он в паспорте «русский» написан. В одно из воскресений поехали к нему домой, посмотреть, где и как живет, я одна боялась к нему зайти. Ну, все хорошо. Но не тут-то было, у меня в паспорте штамп: «Бадлянова Александра», а он живет в Киргизии, пока я его разыскала, адрес написала, чтоб дал развод, он ответил, что у него паспорт чистый. Ну, я походила в ЗАГС и в военкомат, нигде не могут ничем помочь. Надоумили сходить к прокурору. Не быстро, но паспорт мне поменяли, это длилось целый год. Ну, расписались, я -замужняя женщина. Написала Вене, что я вышла замуж. Веня написал Лиде, пишет: «Ты, Лида, не поверишь, наша Динка-дура замуж вышла. Я думаю, что какой-то тоже дурак. Нормальный бы не взял её в жены». Меня разнесли, дуру, по кочкам. Это письмо Лида мне выслала, видимо, хотела нас с Веней поссорить. Это письмо и теперь хранится у меня. Вене ничего не говорила о его письме, но в моей душе большой осадок от обиды: за что меня ненавидят? А когда Веня с Альбиной в Сочи или в Туапсе, не помню, встретились с Лидой, и Альбина ей не понравилась и Вене высказала свое мнение. Веня обиделся на Лиду, и они не переписывались долгое время: узнавали друг о друге через меня, дуру. Я-то все хотела угодить. Веня приехал ко мне, рассказал, удивлялся: почему Лида так поступила? Я с Альбиной встретилась. Веня говорит мне: как тебе моя Альбина? А тебе хороша, так мне ещё лучше, очень понравилась мне.
У нас все хорошо. Кустов работает все там же. Летом они бурят скважины в горах, далеко от города, рабочих увозят вертолетом, смена на месяц меняется, месяц работают на предприятии. Кустов токарит, слесарит и прочее. Таня в яслях, пока что я работаю только в дневную смену, ребенок маленький. Летом Лида всей семьей приехала к мамке в Апшероиск, и что же. Лида пишет: «Динка, ты знаешь, мамка что чудит? Объявила нам — продавать дом. Я не буду его караулить, уезжаю в деревню, к кому-нибудь примкнусь и буду жить». Господи, у бабки крыша поехала. Лида пишет, нашли покупателей. Всё, что тобой приобретено, все насмарку. Кое-что подарили соседям, швейную машинку продали за копейки. У нас путевка семейная в Ялту, потом в Москве поживем и улетаем в свой Якутск. Очень мы с мужем расстроены, жалко домика. Мечтали каждый год приезжать, как домой. Соседи уговаривали: «Асафьевна, останься, мы же тебе во всем помогаем и будем помогать. Куда ты теперь поедешь?» — «Ну так ведь у меня и Динка есть, поеду к ней». Это мне Лида пишет. Я рассказала Павлу, что делать, посоветуй. «Ну, что я? Пусть едет к нам, куда ей деваться». О Боже, опять я буду спать под кроватью, ох, мать моя — женщина! Приехала к нам, ну и давай плакать: «Вот как Лиденька меня вытурили из дома, как собаку, я осталась на улице». -«Мамка, но ты им сказала, что дом я ваш караулить не буду. Так ведь сказала?» — «Ну, так я, может, пошутила, а они за правду думали». — «Ничего себе шуточки. Ты ждала, что они будут тебя уговаривать, а теперь что, все сначала? Ты видишь, какая теснота, ребенок уже подрос, в ванну не положишь спать. Она теперь в кроватке спит. А мне опять под кроватью спать». -«Динка, а ты Павла выгони, зачем он тебе нужен? Он тебе дороже чем, мать твоя?» — «Мамка, а почему же ты Лиде не скажешь такого, пусть бы Лида выгнала мужа и тебя увезла бы в Якутск». — «Динка, ты не ладно говоришь».
О Мончегорске неинтересно, об этом не буду.
Заглянуть в прошлое на два с половиной миллиарда лет назад.
Международное сообщество постановило перед собой цель — узнать все тайны Земли. В районе Мончегорска группа геологов начала бурение скважины, чтобы заглянуть на 2,5 миллиарда лет назад. Эта экспедиция готовилась десять лет в кабинетах и на местности. Её вдохновителю пришлось доказывать ученым двадцати двух стран, что именно около Мончегорска и можно добраться до уникальных слоев Земли и заглянуть в прошлое. Буровую установку специально доставили из Финляндии. Достать в России оборудование, в котором используется не нефтепродукты, а только вода, оказалось невозможным, а чистота — это одно из главных условий. Керны аккуратно достают из скважины и бережно моют водой. Керн — это первая лава на Земле, она вырвалась из недр в первобытный океан, который по представлениям ученых, бушевал на месте нынешнего Мончегорска. Руководитель международного проекта Виктор Мележик, русский по происхождению, представляет Норвегию. Всего же в программе континентального бурения участвуют двадцать две страны, но к сожалению, России среди них нет, работы проводятся, что называется, в складчину. Первый этап — добыча образцов — стоит миллион долларов, ученые утверждают, что только на Кольском полуострове можно проследить пятнадцать из шестнадцати этапов развития планеты. Образцы будут доставлены в норвежский Тронхейм в спецхранилище, где год будут изучать только участники проекта, а потом прикоснуться к ДНК Земли дадут и остальным ученым. Вопрос — заглянуть в прошлое, почему на Земле то тепло, то холодно, идет глобальное потепление.
Мы живем на Кольском полуострове. Но что мы знаем о нем? Да самую малость. Начнем с нашего озера. Имандра — саамское название, не переводится, это озеро — самое большое в Европе. В длину Имандра имеет 109 км, в ширину 19 км, глубина 67 м, водная площадь 880 кв км. И далее, это интересно.
Трехслойное озеро, экспедиция Санкт-Петербургского университета к уникальному озеру Могильное на острове Кильдин. Над загадкой его феномена ученые работают более 200 лет — с 1804 года. Уникальность этого водоема в том, что поверхностный слой воды опреснен, глубинный отравлен сероводородом, а в промежуточном, соленом и насыщенным кислородом слое, обитают морские животные и растения. В отрезанном от моря озере в процессе становления появились новые уникальные виды. Например, кильдинская треска. Ученые стремятся разгадать секрет знаменитого трехслойного водоема и защитить его от хозяйственной деятельности. Могильное уже имеет статус памятника природы федерального значения. Но этого недостаточно для поддержания жизни прибрежной экосистемы. Необходимо, чтобы режим распространялся на всю территорию, включая Кильдинский пролив. Сегодня остров необитаем, охранные мероприятия не проводятся, за исключением единичных рейдов пограничников по борьбе с браконьерством. А ведь отсутствие государственного и общественного контроля над озером крайне опасно.
Ну, а наш Мончегорск, кругом озера: Комсомольское озеро, оз. Имандра и Мончегорское. Кругом вода, но питьевой воды нет, все озера грязные. За 30 км от Мончегорска нашли озеро под землей, питьевая вода, тянут линию.
Ну, опять я пишу о своем Мончегорске, а как же иначе, я же в нем выросла, научилась говорить, научилась в туфлях ходить, мои ноги, кроме лаптей, ничего не нашивали, а в них хорошо всегда ногам. Свободно, легко. После-то лаптей да надела туфли, просто мученье, пальцы сжало, пятки косолапят. И почему здесь лапти не носят, вокруг города такие березы стоят, сколько можно надрать бересты с них. Ну, ничего, привыкну ко всему. А теперь расхвалю свой Мончегорск, каждый кулик свое болото хвалит. Полярный день и белые ночи -в этом особая прелесть Севера. Согласно таблицам Мурманского гидромета, на широте Мончегорска полярный день начинается 28 мая, а заканчивается 16 июля. Сезон белых ночей, это когда солнце не опускается за горизонт ниже семи градусов и вечерние сумерки сливаются с зарей, длится дольше — с 5 мая по 10 августа. Для сравнения: сезон белых ночей в Ленинграде всего 24 дня. В Мончегорске больше ста дней. Кому после этого ещё неясно, где настоящая романтика. Ну, я тоже после этой спячки, стосуточной ночи, еще не оклемалась, все болячки, большие и малые, обострились. По календарю апрель, а на улице ещё начало марта, ночью морозец 10-15 мороза, днем 5-6, но иногда показывается солнышко, только вот ветер сильный северный, дороги посыпаются песком, ветер поднимает песок со снегом, глаз не откроешь.
2007 год
